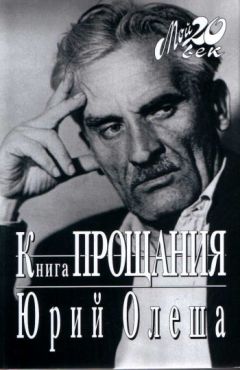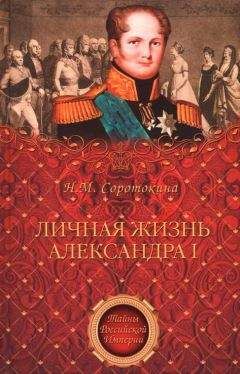Юрий Олеша - Книга прощания
Дело было лунной ночью, это я помню.
В ту эпоху, между прочим, как-то заметней было, что ночь именно лунная. Вернее, в нашу эпоху, по сравнению с той, лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны — не сияющий, плоский, белый и, уж во всяком случае, не колдовской. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены — много лет не видел силуэта кошки в лунном свете! Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал! А лунный свет на пороге сеней! А лунный свет в садике! А город — весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами — в лунном свете!
Куда это все исчезло!
Мне скажут, поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город. Нет, и там этого нет! И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая, почти потерявшая для нас, людей, свою ценность луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете, как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо — та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами.
Так вот, лунной ночью шел я с молодым человеком по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатей, губастей, весь громче и с зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь.
В Одессе в те времена февраль, особенно конец его — о, это уже была весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-либо Болыпефонтанского берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море — синее и свежее, как глаз!
Фиалки продавались букетиками — пять, шесть цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо-лилов, бархат времен пажей… Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде, — были холодными… Так в молодости начиналась весна…
И вскоре вышел в свою неповторимую прогулку Эдуард Багрицкий.
Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе — знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор Публичной библиотеки. Это был высокий старик с белой длинной бородой и губами, складывающимися при разговоре так, что видно было его происхождение: француз.
Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью «Альбатроса», и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски.
Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки александрийского стиха.
1944
Кажется, 13 февраля 1944
Писать каждый день. Это, может быть, и составит книгу, о которой я мечтаю.
Если не ошибаюсь, сегодня или завтра исполняется десятилетие со дня смерти поэта Багрицкого. Он умер в Москве, в больнице, днем. Критик Селивановский позвонил мне на дом по телефону и сказал: «Эдуард умер». Я стал разыскивать больницу, ехал в трамвае, далеко вокруг Москвы, по незнакомым улицам с садами, черневшими и белевшими от оттепели. Этот колорит уже казался мне кладбищенским. Больница помещалась в больших, с колоннами, старинных флигелях. Почему-то мне не удалось попасть в палату, где лежал умерший Багрицкий. Помню, что я стоял в прихожей, раскрашенной в казенные краски, и переговаривался с кем-то, спускавшимся или поднимавшимся по лестнице. Кажется, это была Вера Инбер. От этого человека, которого я не запомнил, я и услышал рассказ о смерти Багрицкого. Вернее, не рассказ, а только сообщение, которое у меня оказалось связанным с одним моим воспоминанием: когда еще живого Багрицкого подняли на подушках, у него за ушами уже были видны синие пятна.
Вечером гроб с телом стоял в зале Клуба писателей на улице Воровского, и кинематографисты, треща и ослепляя юпитерами, снимали и мертвого в золотистом гробу, и почетные караулы.
Я Эдуарда Багрицкого знал юношей в Одессе. В весенний вечер, во время прогулки в лунном свете, он рассказал мне замысел своей поэмы «Комета» и читал из нее выдержки. Это я и запомнил наиболее впечатляюще и нежно о Багрицком.
В годы зрелости мы разошлись, и когда он смертельно заболел, я не придавал этому значения, и вышло так, что я, начинавший вместе с Багрицким литературный путь, стоял возле его гроба уже как чужой и любопытствующий человек.
Правда, мне вспоминалась его затхлая еврейская квартира в Одессе, с большими и неуютными предметами мебели, с клеенкой на обеденном столе и окнами, выходящими в невеселый двор. Это воспоминание трогало мое сердце, но мне, в общем, было все равно, что умер Багрицкий. Меня развлекала суета похорон и смена караулов, и также немаловажным был для меня вопрос, будут ли снимать меня для кино, когда я стану в караул. Меня снимали, и было очень трудно стоять, чувствуя себя под взглядами публики и видя перед собой до дурноты желтое лицо покойника в узком пространстве между бортами гроба. От света юпитеров в глазах плыли огромные разноцветные круги, и я с трудом достоял до смены.
Багрицкий похоронен на Новодевичьем кладбище, в аллее, недалеко от входа, под деревом, образующим жесткий, ненарядный навес. В тот день, когда я впервые увидел его могилу, на ней стояло несколько вазонов с цветами. Может быть, их принесли недавно, а может быть, они остались и с самых похорон. Могила показалась мне жалкой, и впечатление от нее стало в один ряд с юношеским впечатлением от квартиры поэта в Одессе, на Ремесленной улице.
Багрицкий болел бронхиальной астмой, унаследованной им от отца, разорившегося, а может быть, не успевшего разбогатеть торгового маклера, которого я видел только один раз, выходящим из дверей с керосиновой лампой в руках.
От бронхиальной астмы лечатся так называемым абиссинским порошком, который курят, как табак. Запах этого курения стоял в московской квартире Багрицкого. Припадки астмы повторялись у него довольно часто, и, приходя к нему, я почти всегда застигал его в неестественной, полной страдания позе. Он сидел на постели, упершись руками в ее края, как бы подставив упоры рук под туловище, готовое каждую секунду сотрястись от кашля и, казалось, изо всех сил удерживаемое от этого человеком. Он и умер от астмы, осложненной воспалением легких.