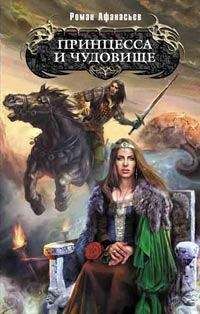Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3
— А фигуранткой Оперы?
— Это лучше.
— Вы смеетесь?
— Умираю от смеха. Содержанкой большого сеньора, который покроет меня бриллиантами! Я постараюсь выбрать самого старого.
— Прекрасно, дорогой друг; но остерегитесь наставить ему рога.
— Обещаю, что буду ему верна. Но он найдет должность моему брату.
— В этом не сомневайтесь.
— Но в ожидании, пока меня примут в Оперу и представится мой престарелый влюбленный, кто даст мне, на что жить?
— Я, Баллетти и все мои друзья, и все это без всякого другого интереса, кроме, чтобы смотреть в ваши прелестные глаза, и быть уверенными, что вы ведете себя разумно, и заботиться о вашем благополучии. Я убедил вас?
— Вполне убедили; я буду делать только то, что вы мне велите. Будьте только всегда мне другом.
Мы вернулись в Париж, когда уже стемнело. Я отправил Весиан в отель и пошел ужинать с моим другом, который за столом попросил свою мать поговорить с Лани. Сильвия сказала, что это будет лучше, чем ходатайствовать о нищенской пенсии в военном ведомстве. Говорили о проекте, который обсуждался в совете Оперы, который состоял в том, чтобы сделать платными все места фигуранток и певиц хоров в Опере; хотели даже сделать их дорогостоящими, потому что, чем они будут дороже, тем больше девицы, их занимающие, будут стимулированы. Этот проект, в ряду других скандальных мер, имел, однако, видимость разумности. Он должен был некоторым образом облагородить положение мерзавцев, продолжавшее быть презираемым. Я отметил в то время несколько фигуранток и певиц, некрасивых и бесталанных, и, несмотря на это, живущих вполне благополучно; считалось, что девица в этом статусе должна проявлять то, что в народе называют благоразумием, хотя на самом деле каждый, кто захотел бы жить благоразумно, умер бы с голоду. Однако если новенькой удастся продержаться благоразумно хотя бы месяц, очевидно, что ее судьба сложится удачно, потому что в таком случае сеньоры, которые вознамерятся завладеть этой респектабельной разумницей, — самые респектабельные. Большой сеньор очарован, когда публика, при появлении опекаемой им девицы, называет его имя. Он спускает ей даже некоторую неверность, при условии, что она не отбрасывает то, что он ей дает, и дело при этом не выглядит слишком скандальным; наличие альфонса редко вызывает возражения, и, впрочем, содержатель не приходит ужинать к своей содержанке без того, чтобы заранее не оповестить ее об этом. Побуждало французских знатных сеньоров иметь на содержании девиц из Оперы то, что все эти девицы принадлежали королю в качестве членов его Королевской Академии музыки.
Я вернулся в одиннадцать часов и, видя комнату Весиан приоткрытой, вошел в нее. Она была в постели.
— Я сейчас встану, потому что хочу поговорить с вами.
— Оставайтесь в постели и разговаривайте так. Я нахожу вас так более прекрасной.
— Это мне приятно.
— О чем вы хотите со мной говорить?
— Ни о чем; только поговорить о том, что я собираюсь сделать. Я сохраняю целомудрие лишь с той целью, чтобы найти человека, ценящего его лишь для того, чтобы разрушить.
— Так и есть; и поверьте мне, все в этой жизни устроено так же. Мы примеряем все на себя, и каждый из нас тиран. Вот почему лучшее существо — это то, которое терпит. Мне нравится, что вы становитесь философом.
— Как можно им стать?
— Надо думать.
— Как долго?
— Всю жизнь.
— И это никогда не кончится?
— Никогда; но получаешь то, что можешь, и доставляешь себе такую порцию счастья, какую можешь.
— И это счастье, в чем оно состоит?
— Его ощущаешь во всех удовольствиях, что доступны философу — и когда он думает, что доставил их себе, и когда чувствует, что подавил в себе предрассудки.
— Что есть удовольствие? И что есть предрассудок?
— Удовольствие это радость чувств; это полное удовлетворение их потребностей; когда чувства, исчерпав себя, или утомившись, хотят отдыха, чтобы перевести дух, или возродиться вновь, удовольствие переходит в воображение, ему нравится размыслить о счастье, что доставляет ему успокоение. Или иначе, философ — тот, кто не отвергает никаких удовольствий, если они не порождают при этом еще больших страданий, и умеет их себе доставить.
— И вы говорите, что это зависит от способности подавить в себе предрассудки. Что такое предрассудки, и как можно их подавить, откуда взять силы на это?
— Вы задаете мне, дорогой друг, вопрос, который моральная философия считает самым великим: это урок, который дает нам вся жизнь. Но скажу вам коротко, что предрассудок — это все, вроде обязанности, которой не находится объяснения в природе.
— Философ, стало быть, должен сделать своим основным занятием изучение природы?
— Это все, что он должен делать. Самый ученый это тот, кто меньше ошибается.
— Кто же из философов, по-вашему, меньше ошибается?
— Это Сократ.
— Но он ошибся.
— Да, в метафизике.
— Ох! Мне это не интересно. Мне кажется, можно обойтись без этой науки.
— Вы ошибаетесь, потому что сама мораль есть метафизика физики, потому что все есть природа. Поэтому можете считать глупцом любого, кто скажет вам, что сделал новое открытие в метафизике. Но здесь я должен оставить вас без объяснения. Продвигайтесь потихоньку. Думайте, делайте заключения в зависимости от верного суждения, имейте всегда в виду ваше благополучие, и будете счастливы.
— Ваше поучение мне нравится гораздо больше, чем урок танца, который мне даст завтра Баллетти, потому что я предвижу, что я от него устану, в то время как сейчас я с вами совсем не устала.
— Отчего вы решили, что не устали?
— Из-за того, что не хочу, чтобы вы уходили.
— Чтобы мне умереть, дорогая Весиан, если когда-нибудь философ определял усталость лучше, чем вы. Какое удовольствие! Отчего я хотел бы продемонстрировать его, обняв вас?
— Это оттого, что наши души могут обрести счастье, только находясь в согласии с нашими чувствами.
— Как, божественная Весиан, выкристаллизовался ваш ум!
— Это вы, мой божественный друг, явились его акушером, и я понимаю вас, поскольку почувствовала ваше желание.
— Удовлетворим же наши желания, дорогой друг, и обнимем друг друга.
В этих рассуждениях мы провели всю ночь, и на рассвете наша радость стала полной, в чем мы уверились, поскольку и не подумали о том, что дверь комнаты была открыта, — признак того, что нам и не пришло в голову пойти ее закрыть.
Баллетти дал ей несколько уроков, она была принята в Оперу, и в течение двух — трех месяцев продержалась там, руководствуясь теми правилами, которые я ей преподал и которые ее замечательный ум воспринял как необходимые. Она избегла всех, кто пытался ее завоевать, потому что они казались ей в чем-то похожими на Нарбонна. Тот, кого она выбрала, был сеньор, отличающийся от других, потому что сделал для нее то, что не делал ни один из прочих. Он предложил ей покинуть театр. Он снял для нее маленькую ложу, в которой она проводила все дни оперы, где она принимала своего содержателя и его друзей. Это был г-н граф де Трессан, если не ошибаюсь, или де Треан — в этом моя память колеблется. Она сделала его счастливым и оставалась с ним до самой его смерти. Она живет еще в Париже, ни в ком не нуждаясь, потому что ее любовник ее обеспечил. О ней больше нет речи, потому что женщина пятидесяти шести лет, живущая в Париже, как бы уже и не существует. После ее ухода из отеля де Бургонь я больше с ней не разговаривал: когда я видел ее в бриллиантах, и когда она видела меня, наши души приветствовали друг друга. Ее брат был устроен, но он не достиг ничего больше, чем женился на Пульчинелле, которая уже, возможно, умерла.