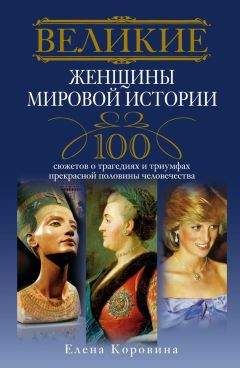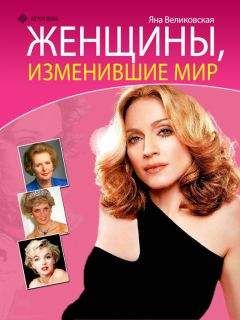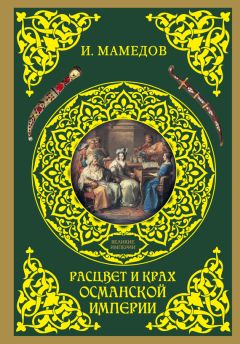Матвей Ройзман - Всё, что помню о Есенине
— Решил я один проехаться по Франции. Купил билет, сел на поезд, да не на тот. Он без остановок примчал меня к границе. Пришли пограничники, посмотрели мои документы и повели в комендатуру. Сидит там важный Дядя, как гаркнет на меня, а я его по-русски обложил. Да никто ни черта не понимает, — переводчика нет! Думаю, могут посадить. — Он замотал головой. — Стал я себя тыкать в грудь пальцем и кричать:
— Муа Езенин! Муа мари Дункан! (Я Есенин! Я муж Дункан! (франц.)).
Дядя сразу полез в шкаф за газетами и журналами. А там моих портретов и Изадоры — уйма! Нашел мою фотографию, сравнивает со мной. Стал хлопать меня по плечу, сигаретами угощать. Усадили меня на поезд, и я приехал к тому месту, откуда уехал. Конечно, Изадора уже мечется по знакомым, разыскивает меня.
Или Есенин, усмехаясь, вспоминал:
— У Изадоры огромный гардероб. Десять чемоданов. Выезжаем из гостиницы — считай их! Приехали на пристань — считай! Подняли на пароход — считай… Кто — я? Человек или счетчик?
А на вечере как раз серьезность выступления по этому поводу вызвала скуку, смешки, восклицания с места:
«Хватит! Говорите дело!» Все сошло бы благополучно, если бы Есенин прочитал отрывки из своих писем, которые писал из-за границы, или куски задуманного «Железного Миргорода», о котором видный критик В. О. Перцов говорит, что этим очерком Сергей «в известной степени предвосхитил „Мое открытие Америки“ Маяковского».[72]
А так, видя, что выступление не клеится, Есенин махнул рукой и сказал:
— Ладно! Я лучше прочту вам новые стихи! Слушатели моментально оживились, и чтение отрывков из «Страны негодяев» пошло под аплодисменты. Когда же Сергей прочел «Москву кабацкую», его выступление превратилось в триумф. «Москва кабацкая» высоко поднялась над стихами поэтов-романтиков. Да, да! Та самая «Москва кабацкая», которую некоторые критики и рецензенты считали упадочной, богемной и из-за которой, собственно, и возникла приписываемая Есенину и ничего общего с ним не имеющая «есенинщина»…
Кстати, об «есенинщине» с исчерпывающей полнотой сказал Маяковский:
«Есенин не был мирной фигурой при жизни, и нам безразлично, даже приятно, что он не был таковым. Мы взяли его со всеми недостатками, как тип хулигана, который по классификации т. Луначарского мог быть использован для революции. Но то, что сейчас делают из Есенина, это нами самими выдуманное безобразие».[73]
Кроме того, многие критики считали, что «Москва кабацкая» возникла из впечатлений, вынесенных Сергеем из «Стойла Пегаса». Это неправда! В «Стойле» не было ни бандитов, ни спирта и т. п. «Москва кабацкая» это — прямое отражение кабаков и вертепов Европы, Америки, а может быть, и ночных чайных у Петровских ворот и на Каланчевке…
Осенью 1923 года Есенин появился в «Стойле» с восемнадцатилетним поэтом Иваном Приблудным (Яковом Овчаренко). Это был парень — косая сажень в плечах, с фигурой атлетического сложения, к тому же очень сильный. Происходил Приблудный из крестьян-бедняков с Украины, в гражданскую войну находился в Красной Армии, сражался под началом Г. И. Котовского. Теперь же учился в Литературном институте, во главе которого стоял В. Я. Брюсов. Есенин знал стихи Приблудного, его жизнь и объявил Ивана своим учеником. Многим было ведомо отзывчивое сердце Сергея, помню, как он относился к своей матери, сестрам, особенно к Шуре, к детям от 3. П. Райх, сыну от А. Изрядновой — Юрию. Но отношение Есенина к Приблудному было поразительное. Он покупал ему одежду, обувь, давал деньги на питание. Был такой случай: оба пришли обедать в «Стойло», и Приблудному не понравился шницель. Есенин повел его в какой-то ресторан…
Я знаю, как Сергей помогал своей критикой исправлять стихи некоторым поэтам, но то, что делал для Приблудного — невероятно! Он подсказывал эпитеты, рифмы, строчки. Благодаря тому, что Иван писал на сельскую тематику, противопоставляя деревню городу, писал о своей умершей матери, его стихи были близки Есенину, и он другой раз дарил ученику лирические сюжеты, четверостишия и т. п. Казалось бы, молодой поэт должен быть благодарен своему учителю. А что вышло?
Как-то сидел я в «Стойле» со знакомой девушкой за столиком, а за соседним — Есенин и Приблудный. Они о чем-то оживленно разговаривали, но из-за шума ничего не было слышно. На эстраду вышел конферансье — начинать вечер, стало тихо, и явственно долетели слова Приблудного, обращенные к Сергею:
— Что, мой «Тополь на камне» хуже, чем ваши стихи?
Для того чтобы читателю было понятно, я приведу конец этого стихотворения:
…Снились мне пастбища, снились луга мне,
Этот же сон — на сон не похож…
— Тополь на севере! Тополь на камне!
Ты ли шумишь здесь и ты ли поешь?
В этих трущобах я рад тебя встретить,
Рад отдохнуть под зеленым крылом,
Мы ли теперь одиноки на свете!
Нам ли теперь вздыхать о былом!
Тесно тебе под железной крышей,
Жутко и мне у железных перил;
— Так запевай же! Ты ростом повыше,
Раньше расцвел и больше жил.
Я еще слаб, мне едва — восемнадцать,
Окрепну и песней поспорим с тобой,
Будем, как дома, шуметь, смеяться,
Мой стройный, кудрявый, хороший мой…
Эта ли встреча так дорога мне,
Шелест ли тронул так душу мою…
— Тополь на севере! Тополь на камне!
Ты ли шумишь и тебе ль пою!!!
Тот, кто читал стихи Есенина, без труда поймет, что все: тема, словарь, эпитеты, многие рифмы заимствованы у Сергея. Есть и другие, но я вишу только то, что сам слышал или видел, или читал…
Между тем за соседним столиком Приблудный продолжал говорить:
— Годика через два, Сергей Александрович, дам вам фору в стихах и все равно обгоню вас…
Я увидел, как в глазах Есенина сверкнули синие молнии: каково это слышать великому поэту от начинающего, да еще пестуемого им самим? Я понял, что скандал неминуем, вскочил со стула, подошел к Приблудному и, наклонясь к нему так, чтобы закрыть от Сергея, сказал, что ему, Ивану, пришел конверт с деньгами, лежит в конторе. Надо его взять, пока не закрыли.
— С деньгами? — переспросил он, встал, пошел к лестнице и стал спускаться вниз.
Я пошел вслед за ним. Разумеется, контора была заперта. Я объяснил Приблудному, как возмутительно он вел себя, что ожидало его, и потребовал, чтоб он немедленно ушел из «Стойла».
— Я могу и сдачи дать! — процедил он сквозь зубы.
— Ты плохо знаешь Есенина. Ничего ты не успеешь сделать!