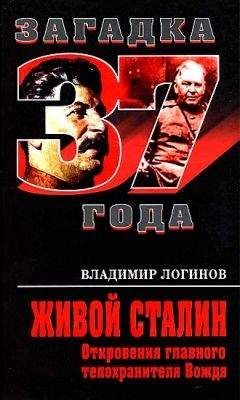Бруно Франк - Сервантес
Это был обыкновенный сбитый кожей портшез, защищенный сверху полотняным навесом, его несли четверо слуг По бокам снова шли монахи, их молитвенно-сосредоточенные фигуры несколько оберегали путешественника от пыли. Шла прислуга, предназначенная для смены. Поезд замыкал вооруженный пикет.
Сервантес опустился на одно колено Он приметил, с какой осторожностью двигались несущие слуги: медленно ступали они, сосредоточенно поджимая губы и не отводя глаз от изрытой дороги.
Они остановились на перекрестке, как раз подле Сервантеса. Без чьего-либо приказания, быть может по знаку герольда, они тихо опустили портшез на землю и отошли, уступив место смене. Монашеская литания продолжалась. Сидящий в портшезе дремал и не проснулся.
Сервантес не думал, что он уже старик. Довольно длинная борода стала почти совершенно белой, лицо болезненно-обесцвеченное, смеженные веки красны, как от слез. Он беспомощно свесил левую ногу в черном чулке и туфле, правая же, очевидно искалеченная подагрой, покоилась в плотных бинтах. Путешествуя в этот пламенно-знойный день, он был одет точно для заседания государственного совета: черная шелковая мантия поверх черного бархатного камзола, непомерно высокий черный поярковый цилиндр почти без полей, сидевший прямо и жестко на восковой голове Так явился Мигелю Сервантесу спящим тот, чьего лицезрения он столь долго и тщетно искал.
Остановка длилась всего лишь мгновение. Размеренным, твердым и неслышным движением подняли паланкин четверо сменных. Мягко рванулась вперед лошадь герольда. С еле слышным звяканьем и бряцаньем замкнула поезд охрана. Коленопреклоненного путника под деревом никто не удостоил внимания.
Но тут закричала Исавелья. Она слегка приподняла головку на своих подушках и испустила пронзительный визг. Обычно она никогда не плакала. Это был припадок. Он хотел взять ее на руки, успокоить. Но все ее маленькое тело вздыбливалось и сопротивлялось с пугающей силой. Вне себя, как бы в безграничном отчаянии, вопила она вслед королевскому поезду, который удалялся, молясь и бряцая оружием в облаке белой пыли.
ДЕРЕВНЯ В МАНЧЕ
Его собирались просватать. Это и была «перемена к лучшему».
Отец, продолжавший заниматься своим постыдным лекарством, дважды пустил кровь некоему священнику, приезжавшему в Толедо из ближней манчской деревни. Полнокровный человек почувствовал истинное облегчение и рассыпался в похвалах. В следующий раз он прибыл уже как добрый знакомый и привез с собой, кроме вина и двух курочек, еще и свою юную племянницу, несовершеннолетнюю деревенскую барышню с благородным именем — Каталина де Саласар-и-Паласиос. Это была рослая, несколько неуклюже сложенная девушка, с правильным и пустым лицом, над которым нависало тяжелое изобилие блестящих черных волос. Отец ее умер, мать никогда не покидала своей деревни Эскивиас.
Сама она тоже была впервые в городе и смотрела с туповатым изумлением на переплетенный по-мавритански мир переулков, на дворцы, башни, церкви и мосты древней столицы. Вечером она сидела с дядей на опрятном внутреннем дворике у родителей Сервантеса. Старики жили здесь много лучше, чем в Мадриде, они занимали домик на «Овощном рынке», как раз позади собора. Жилища сдавались дешево в этом тысячелетнем городе готских, арабских, кастильских властителей, которому давно уже начало грозить обезлюдение. Да и отцу здесь везло с его медициной. Он теперь считал себя знаменитым врачом. Но, казалось, не сознавал собственной своей болезни, быстро разраставшейся водянки. Пронзительным голосом развивал он великие планы на будущее.
Он-то и рассказал деревенскому священнику и барышне про своих сыновей, про отважного офицера Родриго, ныне сражавшегося под предводительством герцога Пармского против фландрских еретиков, но больше всего — про своего старшего. Еще в дни челобитческих хождений научился он изображать его подвиги и героические страдания; он наслаждался доверчивым восхищением слушателей. Девица Каталина слушала с разинутым ртом. Ей казалось, что мир ее излюбленных книг приобретает, наконец, осязательный облик. Потому что, проглотив всю рыцарскую литературу прошедших лет, все эти историй про славного Амадиса Гальского, про его сына Эспландиана, константинопольского императора, про его внуков, правнуков и двоюродных внуков, она воздвигла в бедной своей голове фантастический мир несказанных чудес, сверхчеловеческой отваги и небывалого добронравия, которому ничто, разумеется, не соответствовало в ее обыденных деревенских знакомствах.
Старик Сервантес разглагольствовал, конечно, без всякой тактики. Но молчаливая мать подумала кое о чем посерьезней, наблюдая, как вспыхивает и разгорается в глазах у сельской барышни интерес к ее старшему сыну.
Она отвела духовную особу в сторонку. Было очевидно: брак не считался невозможным. Пожалуй, и в город-то отправили донью Каталину не без некоторого смутного намерения. И в самом деле: она приближалась к законному возрасту и явно обладала всеми качествами, способными осчастливить мужа.
Семья хорошая, даже превосходная, в роду Саласар, как и в роду Паласиос, нет ни единой капли мавританской или иудейской крови.
Это, конечно, очень ценно, — кому же и оценить это, как не благочестивой матери Мигеля? Но как обстояло дело с «осязаемым»? Героям редко дается богатство в этом мире. Был небогат и ее сын. Его заслугам и преимуществам — в том числе и его почетно искалеченной руке — должно было соответствовать что-либо равноценное, хоть отчасти. Герой вправе требовать некоторой зажиточности, кой-какого благополучия. Дядя ее успокоил: и с этой стороны все обстояло отлично. Каталина была единственным ребенком, наследницей хорошенькой усадьбы с приличным домом, плодовым и оливковым садом, при этом три иоха пахотной земли, отличное хозяйство, восемнадцать коз, сорок пять кур и петух. При самой скромной оценке, общая стоимость наследства была бы не ниже тысячи золотых дукатов.
Мигель Сервантес был смиренен. Приехав, он ужасно боялся расспросов, и сидел теперь, усталый и благодарный, на маленьком дворе подле матери, укачивавшей его ребенка. Она ни единым словом не обмолвилась про Ана Франку, но и ни единым словом не похвалила внучку. Она тотчас же с деловой заботливостью занялась ею. Она тихо покачивала ногой раздобытую у соседки колыбельку.
Она начала говорить. Мигель слушал. Он был смиренен. Если только эта девушка не чудище и не дьявол, он постарается к ней подольститься. Ведь все было напрасно. Прислушиваясь к рассказам матери про дом и хозяйство, он вспоминал свою «песню Каллиопы», это отчаянное восхваление всей отечественной литературы, это молящее о милости унижение оптом. Все это не повело ни к чему. Его не желали. Он погибал. Деревня в Манче, молчаливые крестьяне, которым дела нет до мадридского успеха или неуспеха, оливковый сад и поле, простая, бесхитростная подруга — все это казалось ему почти привлекательным. Быть может, эта девушка поможет ему забыть Ана Франку, которая до сих пор ядовито гнездится в его крови. Он не отказался.