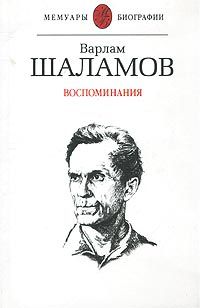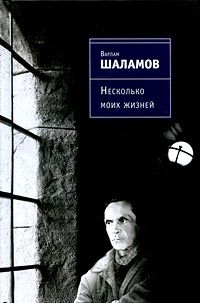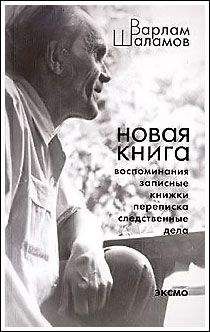Варлам Шаламов - Воспоминания
А меня выписали на общие работы в самом обычном порядке. Я уже успел что-то понять в Колыме, открыть одну из ее тайн — явился в следующий раз на госпитализацию форменным доходягой.
Двигаясь от больницы до забоя, я провел несколько лет до [того] самого момента, как сам кончил фельдшерские курсы и уже не зависел от врачей и фельдшеров — ни от Траута, ни от Савоевой, ни от Лесника, ни от памяти Аси.
Но [суть] именно в памяти, в смерти Аси, в этой драме эльгенской, ибо сульфидин и пенициллин уже были в природе, но на Эльгене их не было. Ася умерла в несколько дней и почти в сознании.
Наравне со мной тогда подставлял свою глотку и Варпаховский, и такой субъект, как Шпринк, который говорил, что он поэт Всеволод Рождественский. Каждый спасается как может. Разумеется, выдавать себя за Рождественского лучше, чем писать донос.
Группа Савоевой, как и полагается, боролась с другими группами за влияние, место под солнцем, территорию.
Чем это хуже, чем начальник управления, который торговал табаком или чаем?
Спасли меня от смерти, падения фельдшерские курсы. Это уже было кое-что!
Вот на этих-то курсах студентка, моя соученица Елена Александровна Меладзе и передала мне последнее Асино — копию заявления в Центральный Комитет партии. Ася не была членом партии, но действовала как «истинный член партии в трудных обстоятельствах», как сказано в партийной реабилитации Раскольникова. Ася умерла, и нарушить ее последнюю волю было вполне допустимо — я подарил завещание Аси,[41] написанное той же самой разборчивой черной гуашью, Меладзе.
Беличья была самой обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов, не считая нужным замечать, что друзей на полярном воздухе не существует и тот, кого отгонят, — умрет. И приближали к «кормушке» своих, которые тоже черпали мало.
После смерти Аси меня отогнали, как вшивую падлу, быстро выписали, койко-день есть койко-день. Но я уже понял, что даже несколько дней перерыва могут продлить пусть не нужную мне самому жизнь.
Я просто приспособился к свите Савоевой и прихватывал что давали, не жалуясь и не благодаря.
Жратва — это с обычной большой кухни, и мне выносили остатки или давали рыться в отбросах наравне с целым рядом других, явно уголовного рода.
На Траута действовала и физическая крепость Аси, ее резкая южная смуглая красота, ее громкое имя, ее привлекательность, всегда отличная спортивная форма, фигура, за которой Ася следила, не снимая средства медицинской и народной косметики. Асе было сорок семь лет, и все внимание было обращено на борьбу с этим рубежом: массаж, поразительного действия массаж, косметика, ежедневные обязательные обливания, ежеутренние растирания снегом на холодном воздухе: водой в Москве, ледяным песком — в Магадане.
— И уж если Ася-матушка, Ася-голубушка захотела лично наложить персты на цинготные раны этого проходимца, [он] просто не может быть тем человеком, которого ждет Ася-лапушка, — ведь он дважды побывал в спецзоне, в этой Джелгале, это что-нибудь значит — туда и один-то раз не посылают, да еще возвращенец… Неопрятный вечно и притом из магаданской тюрьмы 39-го года… Надо отвести нашу лапушку от этого авантюриста!
Вот почему я враг лучшего и признаю только хорошее. Хорошее — это жизнь, а лучшее — это может быть и смерть. В нашем примере хорошим была жизнь Аси.
Отложен был отъезд Аси на один день. По заверению специалистов, лично не голодавших, в числе их были Лесняк, Траут, Савоева, Калембет и Пантюхов, я мог ждать Асю, как какой-нибудь фараон Эхнатон. Разница тут была невелика.
Ася могла бы спешно приехать с Траутом… Но все медики ей говорили, что это не я, что это какая-то Асина ошибка, бзик.
— Мы все пережили заключенными известный канонизированный геноцид 1938 года. Но сейчас ведь не 38-й год, а 43-й. В войну пайки не убавлены, а прибавлены. Этот живой мертвей с витаминного ОЛПа, разве на витаминном ОЛПе нет жизни? Когда получил известие о вас, потребовал табаку. Ну, скажите, Ася-голубушка, ваш муж, отец, брат, сын попросил бы у вас табаку в такой ситуации? Он напомнил бы вам об истории русского костюма, которую вы с ним писали, или какое-нибудь светлое мгновение жизни вашей семьи, какую-нибудь тайну семейную приоткрыл… А тут — табак.
Сказала жена Траута, вольнонаемная акушерка Эльгена:
— Я думаю, что Александре Игнатьевне будет даже неприятно встретиться с таким подозрительным доходягой, да еще хвастается сроком. Он не может ее знать ни по воле, ни по тюрьмам и пусть не тянет свою грязную руку в такое общество.
— Да ведь не он ее ждет, а она его. Все совпадает, срок, рождение, все личное дело сходится, нужна только его личная записка.
— Ну, будите!
— Это не он, не он, — каркали санитары, и под это карканье я заснул.
В тот же день вечером поздно, еще не погас отбойный свет, лампочка мерцала трижды и запылала, и я еще не заснул, мне подали ответ, который мне привез с Эльгена Траут.
— Почему так скоро? Тут же сорок километров.
— Эльген — его участок, он бывает там очень часто, чуть не каждый день.
Письмо в белом самодельном конверте, не заклеено. Черной гуашью, разборчивым редакторским почерком Ася писала: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. В сороковом году я искала тебя вместе с Анатолием Василенко, который был твоим начальником на Черном озере. У нас он работал в ларьке. Из поисков тогда ничего не вышло. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».
Спокойный
В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитара. Работа фельдшера, да фельдшера с курсов — государственных, с дипломом, хотя бы и лагерным, — это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания на Колыме.
Как я попал на «Спокойный», на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?
Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:
— Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск.
Я вышел из толпы:
— Я не плотник, гражданин начальник.
— А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.
— Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?
— Ну, брось травить. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.