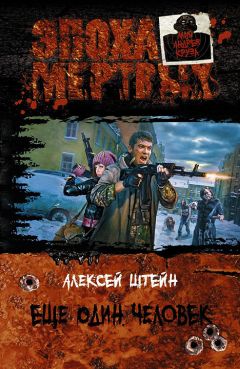Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
— Да ведь я знаю, — возразил я авдитору. Молчание было мне ответом.
Пришел в класс ректор и, просмотрев нотату, провозгласил: «Знающие садитесь, не знающие на колени становитесь». Вместе с другими должен был я стать на колени.
И так пошло, сегодня, и завтра, и послезавтра, у ректора и у инспектора, на латинском и на греческом, на географии и на арифметике, на Священной истории и на катехизисе. В довершение и письменные упражнения наши поверял ректор сам только у лучших учеников, отдавая остальные на просмотр тем же авдиторам. Взяток мне давать было не из чего, денег не бывало; предлагал, когда случалось, просвирку, но это мало умилостивляло. Протестовать не решался по робости. Да и к чему могло повести? Пробовали некоторые. Соглашается проверить ректор; выслушает сам.
— Да это он после уже, как прослушался, подучил, — оправдывается авдитор.
— Нет, нет, поди, — замечал жалующемуся с своей стороны инспектор, когда жалобу приносили в его классе, — Бог на том свете его (авдитора) накажет за несправедливость, а ты поди, флекти (то есть становись на колени).
Да притом вскоре отнята была и физическая возможность протестовать. Подошло в географии перечисление морей, затем далее Пиренейский полуостров. Требовалось показывать на карте, которая на стене. Но старые составляли из себя сплошную живую стенку, загораживали карту и не допускали «молоденьких». Сколько времени прошло, неделя, или две, или месяц, не помню; ректор признал за благо произвести суммарную расправу, пересмотреть нотату за истекший период и воздать каждому поделом. Потребованы лозы, и меня первого растянули.
Меня первого наказал ректор, и я в первый раз подвергся, после трехлетнего ученья, секуции. Высечен был я больно.
И так пошло далее. Я уже заранее знал каждый день свою участь и готовился: стоять на коленях вечно и быть от времени до времени сеченым. Секли сильно, секли слабо; это зависело от секутора. Ректор не стоял над учеником, а расхаживал; инспектор был подслеповат. Снискать милость секутора можно было взятками, которых опять у меня не было. Впрочем, особенно жестокосердых не находилось, и только раз, помню, высечен я был до крови.
Я перестал учить и со зла разорвал географию (ее после склеили опять и переплели по приказанию отца).
Сначала я чувствовал горе, потом негодование, затем отчаяние. Я махнул рукой и мысленно отрекся от класса и ото всех сидевших. Я не признал ни в ком товарищей: в старых — за их несправедливость; в успевавших вообще (сидевших) — за их гонения; в коленопреклоненных со мною — потому что они были мне не по плечу, неразвитые и невежды, действительные олухи, а некоторые и негодяи. И только одного нашел, от кого душа не отвращалась: Иван Любвин, прозванный почему-то Куком; но его также преследовали, отчасти за безобразие (некрасивые черты и притом ряб как кукушка), а более за кротость характера. В уголке стоя на коленях, за другими стоявшими впереди, невидимые учителю, играли мы иногда во время класса в нолики, «на щелчки». Нолики — это был написанный четырехугольник с девятью клетками, на которых один из играющих писал крестики, другой — нолики, и кто успевал написать три нолика или крестика подряд, тот выигрывал и давал противнику три щелчка в лоб.
Я подвергался гонениям, сказал я. Да, я был всех моложе, всех слабосильнее, всех нежнее, ни с кем не водился. Этого было достаточно. Меня стали бить, бить ни за что, а так, чтобы попробовать и показать свою силу. Приходит сорванец в класс, видит меня и, проходя мимо, ударяет кулаком в спину или в голову, при общем смехе товарищей. Смотря по силе удара, я падал, иногда летел в угол; случалось — удерживался на ногах. Защищаться и сдачи давать я не мог; жаловаться не смел, да и бесполезно было: жалобы не подтвердились бы и только участились и ожесточились бы побои. Оставалось терпеть или укрываться, когда представится возможность. Были два любителя, которые упражняли на мне свои кулаки ежедневно, как бы считали обязанностью; без того не сядет на лавку, чтоб меня не стукнуть. И в числе этих был именно Троицкий, к которому полтора года назад я прилепился душой, с которым всем делился, которому отдал свой кушак даже.
Тяжелые воспоминания! Грех лежит на душе покойного А.И. Невоструева, человека в высокой степени почтенного в других отношениях. Как было не заметить этого мальчика, несомненно выделявшегося от других даже видом своим, который не мог быть так груб и туп, как у других? Но не один вид мальчика должен был обратить на него внимание. Невоструев, надо отдать ему справедливость, отлично преподавал географию, обращая ее в своего рода энциклопедию. К описанию стран он прибавлял историю; при перечислении знаменитых мужей той или другой страны передавал их биографию, перечислял их заслуги и труды. Большею частию это было не в коня корм. Ученики были не подготовлены, а потому, естественно, забывали все толкования, — кроме меня одного, который при обширном чтении мог часто сказать больше, нежели даже передано учителем.
— А кто был Микель-Анджело? Болван, ты не помнишь, ведь было говорено!
— Кто был Микель-Анджело? — возвышая голос, обращался ректор ко всему классу.
Наступает гробовая тишина. Дыхание у всех захватывает. Он был страшен, он бил по щекам, таскал за волосы, бил табакеркой по голове; бил, придерживая рукав рясы так, что малый покачнется в одну сторону, а он подхватит тотчас же и ударит с другой стороны, чтобы восстановить равновесие. Ни живы ни мертвы все.
— Кто скажет? Кто знает? Болваны!
В это время тщедушный мальчик, сидящий последним на третьей скамье, если по какому-нибудь чуду не доводилось ему в этот день стоять на коленях (чудо это потом случалось, по низвержении старых), начинал сухим пером скрипеть по бумаге. Это делал я нарочно, чтоб обратить внимание.
— Ну, так, это верно бездельник Гиляров! Кто был Микель-Анджело? Если скажешь, прощу, а то становись на колени.
— Микель-Анджело был скульптор и живописец. Его работа — храм Петра; его картина — «Страшный суд», и проч.
— Ну, садись, бездельник.
Это повторялось неоднократно. И никогда же не пришло в голову во время моих бедствий почтенному Александру Ивановичу удивиться и спросить себя: да откуда же, да отчего этот мальчишка отвечает всегда на вопросы, когда все оказываются незнающими?
И, однако, ему не пришло в голову. И меня продолжали сечь, я продолжал стоять на коленях, и меня не бил только ленивый.
Как еще только я уцелел и вынырнул!
ГЛАВА XX
ПРОГУЛ
Уцелел я потому, что царствование «старых» продолжалось не вечно, рушилось скорее даже обыкновенного, и с громом, какого еще не бывало. Чуть ли не после первых же Святок, во всяком случае не дожидаясь каникул, несколько «старых», человека четыре, были исключены из училища среди курса — событие чрезвычайное. Кроме того, было перепороно по крайней мере человек тридцать, и притом торжественно, в сенях, на виду двух классов, чуть не «под звонком». «Сеченье под звонком» — это, по преданиям училища, шедшим еще от старой семинарии, была торжественная экзекуция вроде прогнания сквозь строй, полагавшаяся для чрезвычайных преступлений, в присутствии всего учебного и учащего персонала, при ударах звонка, сопровождавшего взмахи розог. К моему времени сеченье под звонком оставалось только в предании, но экзекуция над тридцатью напоминала былое: два класса настежь, учителя в полном сборе, в углу целый ворох розог, и притом не наших, артистических, а просто пуков хворостины, мочалкой перевязанных и не свитых. Понятно: и приготовил-то их сторож-солдат, а не «дневальный» любитель.