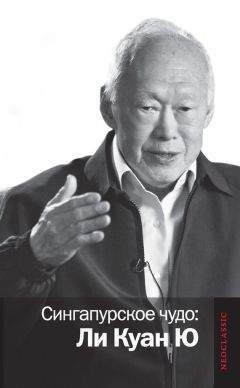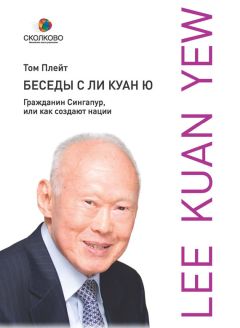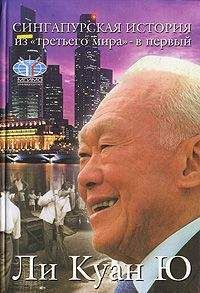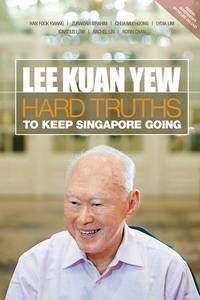Мирослав Дочинец - Вечник. Исповедь на перевале духа
«Мы будем гостями, нанимателями сей чудной келии и не смеем нарушить ее первобытного уклада».
Теснота и мрак, в коих они поселились, угнетали меня, но не их. (Позже, когда мы, использовав бревна, каждому обустроили по отдельному углу, меня еще пуще поразил рассказ отца Паисия: площадь кельи должна быть два на два с половиной метра, а высота такой, лишь бы жилец не касался головой потолка. Тесная, давящая каморка, нагоняющая тоску Как я не уговаривал не жалеть дерева, расширить комнатенки, настоятель был непреклонен. Для себя он намерял келию еще уже, еще теснее. В ней поместились только суровая деревянная кровать, доска-столик да икона на стене. Со временем постиг я суть такого обустройства. Стесненное пространство помогает монаху усмирить себя, самоуглубиться, обратиться к своему сердцу. Не ведал я тогда, что этот опыт когда-то понадобится и мне.)
А тогда нужно было нам с чего-то начинать. И начал я с ясеневого дупла. Тайно передал горсть золотой крупы овчару Олексе, а тот обменял ее на пилы, топоры, рубанки, кованные скобы, дверные петли. Да и кормить артель нужно было чем- то.
Двое в общине знали толк в плотницком деле, один, брат Неофит, учился резьбе по дереву в Кавсокаливе на Святой Горе Афон. Да и другие, вышколенные бесконечным послушанием, жадно хватались за любую работу. Стронутое из насиженных мест, изгнанное из трех монастырей, святое общество взялось за работу, как пчелы, с молчаливым рвением и настойчивостью. Здесь, в безмолвной пуще, надеялись они на длительное учредительство. А пожалуй, просто радовались уединению боголюбивой цели.
Отец Паисий твердым троеперстием благословил первые строительные усилия. Тюканье топоров и визжание пил наполняли лес от утренней зари до вечерней. Затем под скалой правилась церковная служба. Торжественные голоса, радостные и чистые, эхом отдавались в червленом ущелье, дрожали над потоком, возносились над густым первобытным лесом до небесных звезд.
Потом мы скромненько трапезничали, а кто-то из братьев при лучине читал что-то из Святого Письма. И я не раз видел, как широкоплечий и бровастый Кирилл, расчувствовавшись, ронял от растроганности слезы умиления в миску. Брат Кирилл «лелеял молчание», жил в безмолвии. Да не только слезы капали в его снедь, Кирилл подливал к еде воду. Выбирал пальцами гущу, а жидкость выпивал из миски.
«Почему он так делает?» - осмелился спросить самого младшего среди монахов, брата Георгия.
«Дабы еда не была такой вкусной», - ответил он, стыдливо улыбнувшись.
«И босиком ходит по щепкам, ноги окровавливает», - добавил я.
«Брат Кирилл укрощает тело. Да что там какая-то заноза против гвоздей в теле нашого Спасителя...»
«А молчать он сколько будет? - не унимался я. - Долго?»
«Это как Господь укажет. Молчание - самая лучшая музика. Извини, брат, мне с тобой приязно беседовать, однако лучше перейти к молитве. Ибо кто ведает, будем ли мы пользоваться завтра сей роскошью».
После ужина некоторое время они отдыхали, а в полночь кто-то будил их всех на «правило» - молитвенные бдения. Чтобы не терять времени на хождение туда-сюда, я устроил себе рядом шалаш и слышал этот слаженный приникновенный гомон-пение:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй нас».
Так начиналась самая сладкая и самая крепкая в мире молитва. Сам отец Паисий никогда и не ложился, спал сидя в углу, в одежде и сандалиях из автомобильного ската - как воин на страже, всегда готов, когда его позовут на сторожевую молитву Молитва была безустанным трудом их умов и сердец. Я заметил, что и в работе они шевелят губами, углубленные в молитвенный лад.
Вечером хромой брат Марко целовал топорище, сердечно присказывая: «Спасибо тебе, топорик, за то, что послужил мне днесь». Брат Георгий незаметно оставлял в моем шалаше то горсть орешков, то гроздь калины, то печеного рака. Плешивый, точно речной камень-голыш, отец Акакий сквозь толстые стекляшки очков улавливал каждое мое движение, чтобы вовремя подать инструмент, отогнать комара, подбодрить улыбкой. А Кирилл неуклюже простирал руки, чтобы помочь мне слезть со строительных подмостков...
Дети небес, они ходили по той же земле, что и я - лесной дикарь.
Как-то, поднимая на стену брус, я не рассчитал силенок, и дерево рухнуло мне на плечо, а затем на бедро. И я вместе с ним свалился в папороть. Меня положили на доску. Брат Кирилл осторожно ощупал телеса. Я закусил бороду, дабы не ойкать. Прислушиваясь к боли, сам себе поставил диагноз: плечо выскользнуло из сустава и рапухло, а ногу лишь придавило. Взглянул на пальцы Кириллових ног, темные и узловатые, словно виноградная лоза, и сказал:
«Лучше всего вывихи вправляют ногой».
Тот захлопал глазами испуганной сарны.
Я распростерся на доске и попросил:
«Приложите ногу к моему плечу, середкой стопы».
Брат Кирил робко покорился.
«А теперь - нажимайте»
Кости хруснули, и боль по-черному исполосовала мне белый свет. Иногда я выныривал из мрака и слышал молитвы над собой. Они проникали в меня, как дождевая вода в кротовину:
«Поболезнуем болью благоболезненной, дабы избежать боли суетной...»
Собравшись с силами, прошептал:
«Я жив?»
«Живее, чем был, сынок. Рано тебе еще к праотцам. Еще служить за это да служить. И умирать не раз...»
Так меня тогда утешил старец. И в голосе его слышалась радостнотворная грусть.
Однажды вечером я встал на ноги и потащился к ватре, вокруг которой сидела братия.
«Зрите - Лазарь гряде!» - радостно воскликнул кто-то. И все повскакивали с мест, светились огоньками их глаза.
«Добро, - прогнусавил отец Паисий. - Если наш благодетельный сын однажды решит стать послушником и принять постриг, так мы поименуем его Лазарем. Иисус очень любил этого благочестивого человека. Поэтому и воскресил его из мертвых».
Долго еще помощник из меня был никакой. Я советовал им использовать в строительстве сухостой - так легче и скорей пойдет стройка. Потому что осень уж расцвечивала вырубку желтым листом. Однако старейшина на мой совет не приставал. Тыкал патерицей в самые твердые дубы:
«Будем мерить меркой вечности. А Господь уж как-то поруководит».
Тогда он распорядился приостановить обустройство жилища, все силы сосредоточить на строительстве церкви.
На Михайлов день, когда ноябрьский ветрище колко хлестал по глазам, в нашей церквушке совершалось первое богослужение. Брат Неофит вырезал из мягкой липы Святой престол. Напаривал какие-то листья в кедровом масле и воске, растирал глинку, процеживал, а затем покрывал той смесью резное дерево. А также лики святых, нарисованные им на плотной бумаге из немецкого дота. Под тем лаком они тускло светились, как на давних византийских фресках. Брат Акакий выклепал из патронных гильз свечники - медовое сияние залило тесное пространство. Я усталал земляной пол листьями дикого винограда, чебрецом и полынью - их дух перебил крутой запах нашего пота.