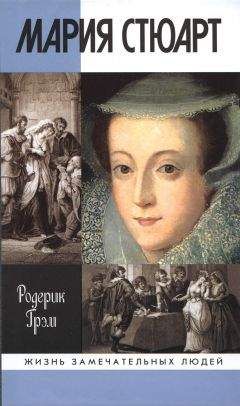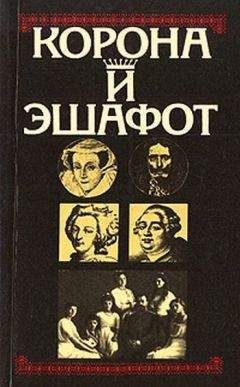Михаил Каратеев - По следам конквистадоров
Покончив с обработкой хвоста, Михей минут пять слонялся по двору, а потом не торопясь двинулся к опушке леса. Полагая, что он хочет удрать, я и еще двое присутствовавших кинулись за ним. Менее всего помышлявший о бегстве, но испуганный внезапной погоней, Михей с ловкостью белки взлетел на первое попавшееся деревцо. При наших попытках снять его оттуда, он, пользуясь природными ресурсами, необычайно метко отстреливался. Обтирая пострадавшие головы, мы благоразумно отступили и выждав когда Михей израсходует все патроны, с дерева его все-таки сняли.
После этого он снова был посажен на веревку, конец которой прикрепили к ножке стола, под жилым навесом. Однако зверь оказался настолько предприимчивым, что к вечеру вся группа возопила: каждого проходящего мимо, он, играя, хватал за ноги, кроме того, поминутно взбирался на стол, подвергая строжайшему исследованию и беспощадной порче все, до чего мог добраться. Пришлось перевести его под ближайшее дерево, в будку, сделанную из ящика. Немедленно забравшись туда, Михей свернулся калачиком и заснул. В жаркие часы он предпочитал спать на крыше своей хаты.
Вскоре Михей совершенно обрусел и даже сделался шовинистом: инородного духа он не выносил и парагвайцам приближаться к нему было опасно. Впрочем и русских он не всех жаловал и великолепно запомнив, кто его в детстве дразнил, впоследствии не упускал случая свести старые счеты. Он обладал совершенно исключительной храбростью и даже, будучи еще маленьким, смело наскакивал на любое приблизившееся к нему животное. При этом он громко свистел (боевой клич его племени), шерсть на нем становилась дыбом, хвост раздувался щеткой, а глаза сверкали как раскаленные угли. И как это ни странно, его боялись и уважали все наши собаки, лошади, свиньи и прочая живность, за исключением цесарок, очевидно полагавшихся на свою численность. Когда они, нагнув головы, начинали сомкнутым строем наступать, Михей сначала грозно пыжился и свистел, потом храбрость его покидала и он стремглав вскакивал на дерево, откуда уже принимался ругать странных птиц последними словами. Впрочем, когда он вырос, ему не то что цесарки, а сам черт сделался не брат.
Спокойная жизнь и обильные харчи к концу года превратили Михея в крупного зверя. Самые рослые экземпляры коати, которых я видел в зоологических садах, казались по сравнению с ним жалкими дегенератами. Когтями и зубами его Бог не обидел и своими острыми, почти волчьими клыками он владел превосходно. Из русских он никого и никогда не трогал, если его не трогали, но и обиды не спускал никому. Исключениями были только я, моя семья и двое-трое избранных, к которым он благоволил. За некоторые его похождения мне иной раз приходилось ударить его раз-другой по морде, причем он не думал огрызаться, тогда как всякий другой дорого заплатил бы за каждую оплеуху.
Как я уже говорил, он не выносил парагвайцев и однажды так укусил соседку, рискнувшую на его глазах войти под один из наших навесов, что ей пришлось несколько дней пролежать в постели. Вообще сторож он был идеальный и привязав его возле жилья, можно было не сомневаться, что никто посторонний туда допущен не будет.
Беда была в том, что Михей хорошо научился стаскивать через голову ошейник и таким образом мог освободиться от привязи когда ему вздумается. Он этим не злоупотреблял, а о бегстве из колонии и не думал, так как жилось ему в ней вольготно.
Помимо привязанности к хозяевам, в жизни им руководили два одинаково сильных чувства: любопытство и чревоугодие. Если, освободившись от ошейника, Михей решал отдать предпочтение второй страстишке, то прекрасно зная в каких углах сидят на яйцах куры, он прямиком отправлялся к одному из гнезд, вышибал из него наседку и с изумительным проворством начинал выпивать яйца. Излишне, конечно, говорить, что за это я его по головке не гладил. Если же Михей бывал сыт, то забравшись под чей-нибудь навес, он принимался шарить по всем закоулкам и открывать попавшиеся ему коробки, баночки и пакеты. На особом подозрении он почему-то держал семью нашего завхоза Раппа и при всяком удобном случае норовил нагрянуть к нему с обыском. Особенно не любил его жену, которая всячески старалась снискать его симпатию, но тщетно: при ее приближении Михей всегда начинал волноваться и предостерегающе посвистывать.
Побаивались Михея и некоторые другие члены колонии, у которых по отношению к нему совесть была не совсем чиста, не говоря уж о том, что всюду есть ущербные люди, не упускающие случая сделать зло и человеку, и животному. Против Михея они повели агитацию, нашептывая начальству, что он опасен, никому не дает проходу, может загрызть кого-нибудь из детей и т. п. Последнее было особенно злостной напраслиной: детвору Михей очень любил, охотно играл с нею и никогда не обижал.
Керманов к Михею в общем благоволил, но все же в конце концов поддался этим наговорам и поставил мне условие: или убрать зверя из колонии, или привязать его так, чтобы он не мог освободиться. Последнее оказалось невозможным. Через неделю после этого разговора Михей, которому показалось, что жена завхоза его дразнит, стащил с себя ошейник и жестоко ее искусал. Последовало новое вмешательство Керманова и ультиматум: немедленно спровадить преступника куда угодно, или он будет застрелен.
Делать было нечего. Посадив Михея в ящик, чтобы он не видел дороги, я оседлал коня и отвез его верст на пять, в самый дремучий лес, отнес еще шагов на двести от просеки и открыл крышку.
— Ну, Михейка, — сказал я, — возвращайся, брат, в первобытное состояние!
Но Михей не желал вылезать из ящика. Когда я вытащил его оттуда насильно, он сел у моих ног и тихонько повизгивая не двинулся с места. Я попробовал уйти, но он сейчас же побежал за мною. Мне стыдно было смотреть ему в глаза. Вынув револьвер, я дал несколько выстрелов в воздух. Михей испуганно свистнул и мигом взметнулся на ближайшее дерево. Не оборачиваясь и чувствуя себя подлецом, я выбежал на дорожку, вскочил на коня и кружным путем возвратился домой.
На Михея мы не смотрели как на домашнее животное: это был член семьи, верный и преданный друг, он был сердцем чище и честнее всех окружающих. Поэтому вернулся я в крайне подавленном настроении, презирая себя за то, что уступил Керманову, хотя и понимал, что он тоже по-своему прав.
— Вот увидишь, он возвратится, — утешала меня жена. Я и сам на это в душе надеялся, но уже наступила ночь, а Михея не было.
Наконец с верхней нашей чакры, часов в десять, прибежал запыхавшийся Флейшер.
— Пришел Михей, — сообщил он, — Голодный как волк, сразу же схватился за чью-то тарелку с едой, а когда попробовали отнимать, оскалился и зарычал. Чистяков, который его особенно ненавидит, снял было с гвоздя ружье, но Михей, не будь дурак, мигом дал тягу! Идем скорее искать его, а то какой-нибудь гад и в самом деле пристрелить может.