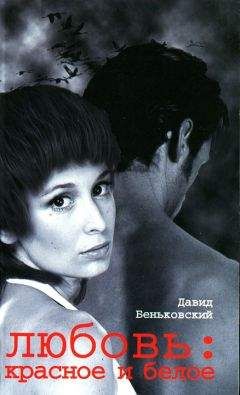Давид Самойлов - Перебирая наши даты
писал Глазков.
Но мы с Мишей были не просто знакомые или приятели. Мы были единомышленники, единоверцы. Вот почему в воспоминаниях о нем я так много места уделяю изложению символов нашей веры и темам наших бесед. Я так часто употребляю местоимение «мы» потому, что наше единомыслие было важным достоянием каждого, общим багажом, накопленным совместно. Уверен, что так же понимал и Кульчицкий.
…Естественно, что в откровенных разговорах мы пытались разобраться в событиях 37–38 годов, недавно прокатившихся по стране.
Нынешним молодым читателям наверняка кажется парадоксом, нелепицей, недомыслием оправдание «большого террора» (или полуоправдание, или полуприятие) людьми, бывшими его жертвами или свидетелями пятьдесят лет тому назад. Тут, конечно, огромную роль играло наше воспитание, еще не формализованное и проводившееся с убедительным фанатизмом. И круг идей, которые мы исповедовали, убежденные этим воспитанием и отторгнутые от других идей.
Мы были уверены в справедливости революции, ее исторической неизбежности в России. Мы были убеждены, что беспощадность есть главный метод революционного действия.
В нас глубоко сидела вера в бескорыстие деятелей революции и в необходимость самоотречения. Несмотря на провозглашаемый материализм, нас воспитывали идеалистами. Мы стремились жить не ради настоящего, а ради светлого будущего, ради будущего счастья. А оно, учили нас, может осуществиться только путем жертв, страданий, самоотречения нынешних поколений. Никто из нас не был аскетом или фанатиком, но культ страдания и самоотречения глубоко сидел в наших умах. И в них видели ближайшее будущее поколения, так как хорошо осознавали, что ни за горами война, где именно нашему поколению придется сыграть свою историческую роль, пройдя сквозь страдание и самоотречение.
Некоторые современники теперь отговариваются тем, что ничего не знали и не понимали в 37–м году. Мы кое‑что знали и кое‑что понимали.
Тяжелый каток террора не прокатился по нашим семьям, но прогрохотал рядом. Кроме того, мы были довольно начитанны и искали исторических параллелей. Наиболее наглядной был якобинский террор 93–го года. А ведь мы по убеждению были «якобинцы». Предполагали возможность заговора военных, бонапартистского заговора, ответом на который был якобинский террор. Но последующие политические процессы, особенно бухаринский, и массовые репрессии высших и средних эшелонов власти (как теперь говорят), то есть фактическая смена правящего слоя (по меньшей мере двукратная), не вполне укладывались в схему борьбы с бонапартизмом. Скорее похоже на политический переворот. Не бонапартистский ли? Это сбивало с толку. Лозунговым формулировкам и стандартным проклятиям в печати, призывам к тотальной бдительности мы не верили. Не были увлечены призывами выискивать и разоблачать.
Однако предполагали какую‑то тайну, какую‑то цель, какую‑то высшую целесообразность карательной политики. И старались это разгадать. Наиболее загадочным было поведение Бухарина, Рыкова и других бывших вождей на процессах. Не верилось, что пытки могут сломить людей такого сорта. Кроме того, на процессе они могли заявить, что признания из них были выбиты. Ведь присутствовала пресса, сам Фейхтвангер приехал, и книгу его мы читали. (С книгой, правда, что‑то странное произошло: едва ее прочитали, как она исчезла, даже из частных библиотек.) Нет, в покаяниях Бухарина, Рыкова и других была какая‑то высшая, скрытая от нас цель, какой‑то сговор судей с обвиняемыми, исходя из высшей дисциплины партии. Мы ни на минуту не верили, что подсудимые — шпионы, агенты разведок, диверсанты и террористы. Но причины принятой ими на себя роли оставались для нас непонятными.
Обсуждали мы вопрос о том, не являются ли политические процессы и переворот 37–го года предвоенными мероприятиями. И это была, пожалуй, наиболее приемлемая для нас версия. Ибо объясняла закрытость политических целей военной тайной.
В общем, мы принимали 37–й с оговоркой, что истинный его смысл не может быть сейчас открыт, но он несомненно существует и является частью необходимой стратегии. Подробное разбирательство и окончательную оценку мы оставляли «на потом» — на после войны, после победы.
Таково было в общих чертах воззрение юношей с незамутненными мозгами в это смутное время.
…Характер и душевные свойства Кульчицкого не могу сказать, чтобы знал досконально. У него была выходка яркого таланта. Был умен. Может быть, чуть сентиментален и тайно застенчив. Хотя воспитывал в себе обаяние бесцеремонности. Отличался хорошо развитым юмором.
Он, как и Слуцкий, любил шутливый тон в наших взаимоотношениях. Но Слуцкий острил жестче, а порой и обидней. Миша юмором старался не обострить, а «закрыть дело». Иногда, впрочем, мог поставить в неловкое положение. Так дважды было со мной, известным в ту пору своей смешливостью.
Тогда вернулась из Парижа Цветаева. Пожелала она познакомиться с молодыми поэтами и узнать, воспринимают ли комсомольцы ее стихи.
Из московской молодежи выбрали нас. Собрались в квартире Елены Михайловны Голышевой в первом корпусе новых домов по улице Горького. Почему‑то из старших присутствовали бывшие конструктивисты — Илья Сельвинский, Корнелий Зелинский, Вера Инбер. Еще была Жанна Гаузнер, дочь Инбер, на последних сносях. Цветаеву должна была представлять Елена Тагер. Но Цветаева не пришла. И, чтобы не пропадать вечеру, просили нас читать без нее.
Весь синклит располагался за столом. А мы напротив, на поставленных в ряд стульях. Подошло читать Слуцкому. Он начал с известного стихотворения «Инвалиды»:
На Монмартре есть дом, на другие дома непохожий,
Там живут инвалиды по прозвищу «гнусные рожи».
Описывались в стихотворении инвалиды Первой мировой. И были такие строчки:
И приличные дамы, случалось, рожали досрочно
При поверхностном взгляде на этих проклятых уродов.
Кульчицкий толкнул меня в бок и указал глазами сперва на нас, потом на сильно беременную Жанну Гаузнер. Я тонко пискнул. Слуцкий прервал чтение. Жанна Гаузнер покраснела. На меня смотрели с укоризной. Я готов был провалиться.
В другой раз Лена Ржевская впервые решилась прочитать нам рассказ. Мы с Мишей слушали, сидя рядом на диване. Все сохраняли серьезность, подобающую моменту. Но Кульчицкому, наверное, стало скучно, и он, притянув меня, шепнул на ухо какую‑то веселую скабрезность, не имевшую, впрочем, отношения к происходящему. Я прыснул. Лена отказалась читать дальше. Кульчицкий сохранял невозмутимость и даже делал вид, что осуждает меня за несерьезность, как и все остальные. От Павла мне досталась большая встрепка, а Лена при мне стала читать только после войны.