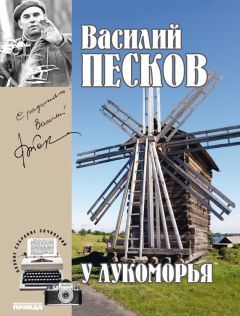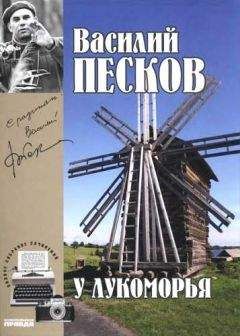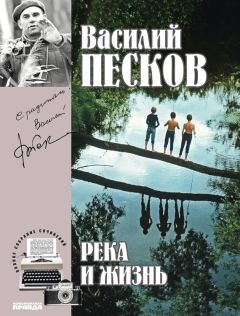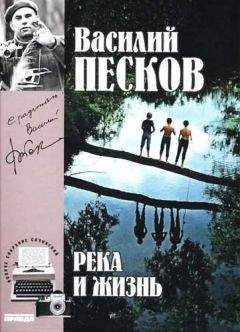Александр Лебедев - Чаадаев
Вообще, как неоднократно говорит о том Герцен, именно «Чаадаева письмо представляет первую осязаемую точку перегиба». И затем, приведя обширную выдержку из первого «Письма» Чаадаева, Герцен пишет: «Далее отрицательное сознание идти не могло, чуть ли этот нигилизм, — подчеркивает он, — не трагичнее нового», то есть нигилизма представителей последующего этапа в русском освободительном движении — революционеров-разночинцев. «Важность этого письма как мрачного протеста, — говорил Герцен, имея в виду чаадаевское выступление в „Телескопе“, — вполне определяется его влиянием. С него начинается точка перелома общественного мнения».
Чаадаев, Лермонтов, Гоголь — эти имена, в представлении Герцена, стоят в одном ряду. «Наряду с философскими размышлениями Чаадаева, — пишет Герцен, — и поэтическим раздумьем Лермонтова произведение Гоголя представляет практический курс изучения России». Более того, вся «литература этой эпохи, — как пишет Герцен, — началась прологом, который... лишает будущего и убивает надежду. Я имею в виду знаменитое письмо Чаадаева, которое сейчас недооценивают, — как замечает Герцен в одной из своих статей 1857 года, — но которое потрясло всю Россию в 1836 году... Это был крик боли, протест... человека... который ощущает в своих мышцах силу, жаждет деятельности и видит себя в пропасти, откуда нет выхода и где обречен на неподвижность. Вот почему в стихах, новеллах, романах повторяется один и тот же тип молодого человека, полного благородных стремлений, но надломленного, бегущего куда глаза глядят, чтобы затеряться, погибнуть, как лишнее, бесполезное существо. Онегин, Владимир Ленский Пушкина, Печорин Лермонтова и герои ранних романов Тургенева — это одно и то же лицо. Видеть, — замечает Герцен, — в этом лишь влияние Байрона, лишь идеалистическую мечтательность, — это значит обнаруживать большой недостаток понимания и чутья».
К этим словам следует отнестись не просто как к одной из возможных концепций — это свидетельство современника.
Но к сказанному тут Герценом следует теперь добавить то, о чем ни сам Герцен, ни тот же Гершензон еще не знали и что вносит очень существенные тем не менее черты в картину духовной биографии «басманного мыслителя».
Дело в том, что в 1935 году у нас был опубликован документ, незадолго до того совершенно случайно обнаруженный среди книг чаадаевского архива. Это была прокламация, написанная или переписанная Чаадаевым в последнее десятилетие его жизни и адресованная к русскому крестьянству.
Вот полный текст этой прокламации:
«Братья любезные, братья горемычные, люди русские, православные, дошла ли до вас весточка, весточка громогласная, что народы вступили, народы крестьянские взволновались, всколебались, аки волны океана-моря, моря синего! Дошел ли до вас слух из земель далеких, что братья ваши, разных племен, на своих царей-государей поднялись все, восстали все до одного человека! Не хотим, говорят, своих царей, государей, не хотим их слушаться. Долго они нас угнетали, порабощали, часто горькую чашу испить заставляли. Не хотим царя другого, окромя царя небесного».
По мнению Д. Шаховского, листовка эта явилась своеобразным откликом Чаадаева на революцию 1848 года во Франции.
Конечно, если принять точку зрения Шаховского, документ этот, достаточно своеобразный по своему стилю, интересен прежде всего именно как свидетельство общего направления эволюции чаадаевского мышления. Вместе с тем приведенная прокламация может свидетельствовать и о том, что неугомонный «чудак», загнанный в свое «басманное отшельничество», не перестал все-таки искать форм для проявления своего неуемного «истинного честолюбия». Но дело здесь не сводится к поискам новых форм общественной активности. Так мог намечаться переход чаадаевского индивидуализма к какой-то, вероятнее всего, далеко еще не ясной и для самого Чаадаева иной системе отношения к действительности: тут менялся социальный адрес чаадаевской проповеди.
Эта прокламация была, по существу дела, обращена к будущему.
В самые последние годы чаадаевской жизни русское общество было оживлено известием о начавшейся войне, впоследствии именовавшейся «Крымской кампанией». Представители различных течений общественности спешили выразить свое мнение по поводу начавшихся событий. Вяземский сделал это в своих «Письмах ветерана 1812 года», которые он начал печатать в одной немецкой газете. Погодин откликнулся на события тоже в «Письмах», сделавшихся тогда же довольно известными в рукописном варианте (позже они были объединены в его «Историко-политических письмах и выписках в продолжение Крымской войны»). Письма Тютчева к жене, посвященные той же теме, были почти тотчас опубликованы за рубежом. И т. д. Все, хотя и с разных позиций, поддерживали русское правительство в его военных планах, призывали его к большей решимости в действиях, критикуя за те или иные «упущения».
Оживился в последний раз и Чаадаев.
Чаадаев написал статью, которая была обнаружена, впрочем, лишь в советское время все тем же Д. Шаховским, предпринявшим специальное исследование для выяснения авторства этой статьи. Дело в том, что Чаадаев, вознамерившись написать статьи, повторил в этом случае уловку, к которой прибег некогда его дед, уже упоминавшийся в этой книге князь M. M. Щербатов. «На вызов Екатерины II через учрежденное ею Вольно-экономическое общество представить туда ото всех, кто пожелает, соображения о преимуществах и невыгодах вольнонаемного труда, написал записку в защиту крепостного права и Щербатов, но он укрылся в ней под фирмой француза, излагающего соображения, якобы вынесенные им из долголетней практической деятельности в России... Внук его, — замечает Шаховской, — прибег к подобной же маскировке и, по-видимому, подобно деду, сохранил свое сочинение про самого себя — и для потомства. Но защищал он в нем мысли, диаметрально противоположные мыслям деда...»
В главном своем содержании статья Чаадаева подтверждает верность автора тем самым идеям, которые были им столь темпераментно высказаны еще в «Философических письмах», вплоть до буквального их повторения. Это обстоятельство и послужило для Шаховского, кстати сказать, основным доказательством в пользу утверждения чаадаевского авторства статьи. Некоторые положения статьи перекликаются и с мыслями, выраженными Чаадаевым в письмах, написанных им разным лицам в последний период его жизни.
Чаадаев в статье, как и прежде, крайне сурово оценивает историческое прошлое России. «Вся история этого народа, — пишет он здесь, — составляет сплошь один ряд последовательных отречений в пользу своих правителей». Совершенно несомненна и антикрепостническая направленность статьи. «Всякий знает, — говорит в статье Чаадаев, — что в России существует крепостное право, но далеко не всем знакома его настоящая природа, его значение и удельный вес в общественном укладе страны... Если вам нужны доказательства, взгляните только на свободного человека в России — и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом». И далее: «Говоря о России, — продолжает Чаадаев, — постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И потому, — заключает Чаадаев свое рассуждение, — было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути».
Можно сказать, что «негативный патриотизм» Чаадаева в известном смысле нашел тут свое итоговое практически-политическое выражение. Чаадаева не захватил воинственный энтузиазм окружающего общества, не оглушили боевые клики «патриотов». При самом уже начале войны, неудача в которой в дальнейшем и открыла стране возможность для новой попытки обновления всей ее общественной жизни, Чаадаев выступил как пораженец. И это было вполне логично. Спасение России он видел лишь в поражении ее тогдашнего государственного и общественного строя.
Чаадаев дожил до воцарения Александра II.
Вновь повеяло «александровской весной». И вновь либеральные надежды полонили тогдашнее «образованное общество». Вскоре даже Герцен за границей ударил в свой «Колокол» во славу благим намерениям нового царя. И вновь Чаадаев остался со своим мрачным скепсисом. Теперь у него уже не было ни надежд, ни иллюзий.
«Как-то, — замечает в своих „Записках“ историк С. М. Соловьев, — я зашел к Хомякову. Тот надеялся по-своему: „Будет лучше, — говорил он: — заметьте, как идет род царей с Петра, — за хорошим царствованием идет дурное, а за дурным — хорошее... Николай — скверное, теперь должно быть хорошее... А вот, — продолжал он, — Чаадаев никогда со мной не соглашается, говорит об Александре II: разве может быть какой-нибудь толк от человека, у которого такие глаза?“