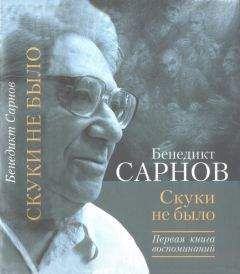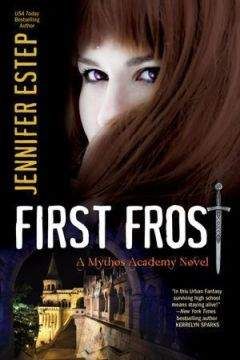Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Это уже — совсем другой голос. Воистину — «божественный глагол», голос правды, гения, голос пророка:
Беда стране, где раб и льстец…
— Да, это гений, — снова вздохнул Виктор Борисович, когда стихотворение было дочитано до конца.
Но его мозг, постоянно рождающий все новые и новые ослепительные концепции и теории, тут же, наверно, навел его на мысль, что в этом частном — пушкинском — случае проявился некий общий закон. Что поэт — как женщина, о которой тот же Пушкин сказал:
…восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле!
В том споре о евтушенковском «Бабьем Яре» он не мог, да, наверно, и не хотел быть со мною — против всех. Но и отрицать, что толкнуло Женю на создание «Бабьего Яра» не искреннее чувство, а холодный расчет, он тоже не стал. Ну и что же? Пусть так. Одно другому не противоречит. Начал — по расчету, а закончил — «по любви». Сарнов тоже знает, что такое порой случается. Даже с гениями.
Женю Евтушенко он гением, конечно, не считал. Но масштаб его поэтического дарования и его место в русской поэзии XX века явно преувеличивал.
Отсюда и эта, сперва озадачившая меня, его реплика про Межирова («Это великий поэт»).
Точкой отсчета тут был — тот же Евтушенко.
Когда Эренбург был в Италии, все его там расспрашивали про Евтушенко. И однажды — в разговоре с каким-то итальянским то ли поэтом, то ли славистом — он рассердился:
— Да что вы всё про Евтушенко, да про Евтушенко! У нас — десять таких поэтов, как Евтушенко!
— О! Десять Этусенко! — изумился итальянец. — Великая страна!
Поддавшись этому всеобщему — мировому — безумию, Виктор Борисович исходил из того, что Евтушенко — значительный, крупный, может быть, даже большой поэт. И вдруг, прочитав Межирова, убедился, что тот — лучше, крепче, ярче, чем Евтушенко. Стало быть, этот неведомый ему прежде Межиров, которого он только что прочел, — поэт великий.
Конечно, его реплика насчет проституции и любви, которые в основе своей имеют нечто общее, была рождена желанием смягчить остроту спора, найти изящное компромиссное решение, которое устроило бы всех — и тех, кто был в восторге от Евтушенко, и упрямого, непримиримого Сарнова, стоявшего на том, что поэтическая публицистика этого их всеобщего кумира все-таки ближе к проституции, чем к любви. Но в то же время это была — концепция, целью которой (как и многих других его концепций) было — самооправдание.
Михаил Михайлович Зощенко о некоторых сочинениях своих литературных собратьев, бывало, говорил:
— Ну, это диктант.
Эта его классическая фраза родилась в начале 30-х, когда еще сохранялись иллюзии, что писать «диктанты» — удел сдавшихся, сумевших наступить на горло собственной песне. Их можно было презирать, им можно было сочувствовать, но сохранялась надежда, что есть еще и другой путь. Но в последующие годы (а после знаменитого постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой уже окончательно) выяснилось, что никакого другого пути нет: никаких «сочинений на вольную тему» больше не будет: отныне и навсегда общим уделом всех советских писателей остается диктант. Только диктант — и ничего другого.
Виктор Борисович это понял раньше других. И принял — как неизбежность. («Когда мы уступаем дорогу автобусу…») Но при этом он все-таки надеялся, что в пределах, в жестких рамках этого диктанта можно будет все-таки оставаться творцом, художником. Даже Пушкину приходилось сочинять диктанты. И это не помешало ему стать (остаться) Пушкиным.
Пушкин, правда, был гений. На то, чтобы в полной мере реализовать свою гениальность, Виктор Борисович давно уже не рассчитывал. (Какое там!) Но он еще надеялся, что в пределах заданного им всем диктанта ему все-таки удастся остаться самим собой. Остаться Шкловским.
И тут надо сказать, что до некоторой степени это ему удалось.
Однажды я шел по нашей Красноармейской улице и встретил Виктора Борисовича.
Остановились.
Он (с ним только так это обычно и бывало) начал с полуфразы, словно продолжая вчера — или несколько дней назад — завязавшийся разговор:
— Ну вот… История такая. Пишу книгу о Толстом. Концепция: Толстой — неудачник.
— Толстой? Неудачник?! — изумился я.
— Конечно, неудачник. Всю жизнь любил простых деревенских баб, а женился на барышне… Был гениальным писателем и отрицал искусство… Основал религию, к которой сам не принадлежал… Неудачник!
Постояв еще немного, мы разошлись — каждый в свою сторону.
О чем думал, расставаясь со мной Виктор Борисович, я не знаю. А я, естественно, все проворачивал в своем мозгу эту его оригинальную идею. Это надо же — такое придумать: Толстой — неудачник!
В его изложении, однако, это выглядело убедительно.
Года два спустя во время очередного нашего вечернего чаепития Виктор Борисович торжественно вручил мне только что вышедшую свою книгу о Толстом, сделав на ней длинную и витиеватую дарственную надпись. Текст был украшен рисунками. В центре листа был изображен биллиард, от которого во все стороны расходились солнечные лучи. Подпись под этим рисунком гласила: «Книги надо писать, а не шары гонять». Само же слово «биллиард», которое там тоже упоминалось, было написано с одним «л». Эту свою ошибку Виктор Борисович заметил сам, но исправлять ее не стал, а, пометив слово звездочкой, внизу страницы сделал к нему сноску: «Новая орфография».
Он не скрывал, что доволен и вышедшей книгой, и собой. Пропел даже по этому случаю «караимский гимн».
«Караимский гимн» — это была старая его шутка. Однажды он рассказал нам, что Айвазовский, оказывается, был караимом. И все крымские караимы были чрезвычайно горды тем, что тут, у них, в Феодосии, живет такой знаменитый их соплеменник. Плодом этой их национальной гордости будто бы и был вот этот самый «караимский гимн», который в исполнении Шкловского звучал так:
Ай-ва-зов-ский,
Та-на-на-на-най!
И вот сейчас, взвешивая на ладони тяжелый том своего «Толстого», он пропел:
Ай да Витя,
Та-на-на-на-най!
Что-то, конечно, по случаю такого события тогда было выпито, и домой от Шкловских мы с женой вернулись уже далеко за полночь. А рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Виктор Борисович:
— Ну как? Вы прочли мою книгу?
В книге было — ни мало ни много — восемьсот страниц.
Да хоть бы даже и вполовину меньше. Как я мог бы успеть прочесть ее за одну ночь?
Я, конечно, решил, что он шутит.
Но это была не шутка. Сам он, вручи ему на ночь кто-нибудь свою новую книгу, наверняка к утру прочел бы ее.
Так, кстати, было с одной моей подаренной ему книгой. У меня даже сохранилось письмо, в котором он мне об этом сообщает:
Дорогой Бен!Звонил к Вам, но не дозвонился.
Сообщаю, Вы написали очень хорошую книгу. Я прочел ее за ночь.
Хороша глава о Маршаке (хотя ей не хватает иронии).
Большой человек тоже заслуживает иронии. Я это опять понял, читая автобиографию Чаплина.
Хорош Гайдар. Спасибо за гусей и лебедей.
Они вместе со мной Вам кланяются.
Вы талантливы, и Вы должны развивать строгое к себе отношение.
Виктор Шкловский. Апрель, кажется 26. Год 1966.Видит Бог, не для того, чтобы похвастаться отпущенными мне комплиментами, привел я здесь это письмо. Совсем не в комплиментах тут дело, а в том, чем они сопровождаются: «…не хватает иронии. Большой человек тоже заслуживает иронии», «…вы должны развивать строгое к себе отношение».
Но главное тут даже и не это, а то, что он прочел мою книгу за ночь.
Он прочел ее за ночь не потому, что она была так уж хороша (в этом я и тогда не был уверен, а уж теперь — тем более), а потому, что любую новую книгу, попавшую ему в руки, он проглатывал сразу. Ему просто-напросто не терпелось дочитать мою книгу до конца — так же, как не терпелось, прочитав, сразу же позвонить мне и сказать все, что он о ней думает, а не дозвонившись — вот так же, сразу, пока не остыл, сесть и написать то, что не удалось сказать по телефону.
Хоть и не в ту же ночь, а чуть позже, книгу Виктора Борисовича о Толстом я, конечно, прочел. (Потом даже написал о ней.) Никаких следов той мимоходом высказанной им концепции я в ней не обнаружил. Хотя следы эти там, конечно же, были. Во всяком случае, его убеждение, что Лев Николаевич — неудачник, было искренним.
В этой концепции тоже был элемент самооправдания: вот и он, Виктор Борисович, тоже (совсем как Лев Николаевич со своим учением) — основал школу, целое направление в науке, «к которому сам не принадлежал». Неудачник!