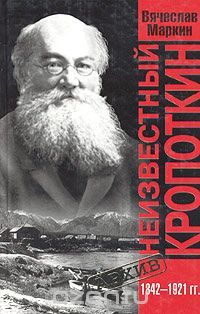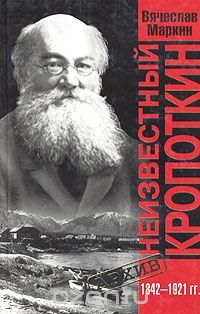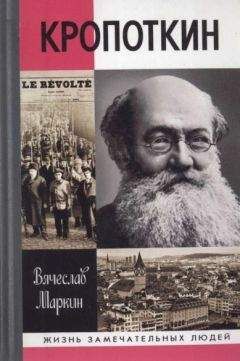Владислав Гравишкис - В семнадцать мальчишеских лет
И у Сергея вдруг вспыхнуло острое желание — написать книгу о брате. Собрать материалы, во всем разобраться и — написать! Трудно? Что ж, пусть будет трудно…
Кажется, события начались с того, что учительница Алевтина Федоровна привела к ним, Дунаевым, квартиранта…
Глава 3
«Учинченчица»
В детстве Сережа не мог правильно произнести слово учительница. Вместо него он говорил смешное и нескладное «учинченчица». Виктор от удивления руками разводил: как можно вместо легкого «учительница» говорить немыслимое «учинченчица».
— Да чего ты, Сережа, в самом-то деле! Ну, скажи — учительница!
— Учинченчица! — легко и свободно выпалил брат.
— Да нет, не так! Учи-тель-ни-ца!
— А я так и говорю.
— Вовсе не так.
— А как?
— Ты говоришь: учин… чен… учин… учин… — силился выговорить мудреное слово Витя и умолкал.
— Ага! — радовался Сережа. — Сам сказать-то не можешь. Тоже мне!
— Наподдаю вот тебе, будешь знать! — сердился Виктор.
Появилось это слово года за два до трагических событий 1918 года. Витя учился в приходской школе. Учительница Алевтина Федоровна узнала, что его мать шьет для богатых семей и попросила мальчика проводить к нему домой: хотела перелицевать старое платье… Зашла, за разговорами засиделись до полуночи и с тех пор наведывалась часто. Чем-то ей понравилась и сама Анна Михайловна и ее два не по годам серьезных сына — младший Сережа и старший Витя.
Было Алевтине Федоровне больше тридцати лет. Широкая, костистая, худая, с крупным лицом и грубоватым голосом. Волосы коротко подстрижены, что было совсем необычным в ту пору. Овальные очки в блестящей стальной оправе добавляли строгости еще больше. Первое время Сережа ее побаивался и на всякий случай старался держаться подальше.
Но вот Алевтина Федоровна усаживалась на лавку подле обеденного стола, убирала очки — и строгости как не бывало. Удивленный Сережа видел, как неприступная, строгая «учинченчица» превращалась в обыкновенную женщину — простую, разговорчивую тетю. У нее даже были свои житейские неприятности.
— Представьте себе, Аннушка, какой все-таки подлец этот Шмарин, — начинала она рассказывать. — Я не могу понять, как можно так жестоко относиться к людям. Меня дразнят, как собаку, мой трудовой заработок бросают мне, как нищей бросают подачку!
Анна Михайловна подсаживалась к Алевтине Федоровне, поглаживала плечо и говорила:
— Что поделаешь, Аленька, что поделаешь! Чего опять Кузьма-то тебе сделал?
Сережа шепотом спрашивал Витю:
— О чем это она, не знаешь?
— О чем, о чем! Шмарин обидел, не видишь? — хмуро отвечал насупившийся Витя.
Алевтина Федоровна успокаивалась и слабо улыбалась:
— Уж извините меня, разгорячилась. Если бы вы только узнали, как все это обидно! Прихожу я к нему за жалованьем (я получаю жалованье из личных средств Шмарина), а он мне рожи корчит: «Пожаловала, нахлебница! Нет на вас пропасти, побирушек!» Повернуться бы, уйти, да не могу: чем жить буду месяц? — «Так ведь я же заработала свое жалованье, Кузьма Антипыч!» — «Заработала, говоришь? А прибыли от твоей работки сколь? Так себе, баловство!» И это говорит попечитель учебных заведений! Вы только подумайте — попечитель!
— Чего там и говорить — крут бывает Кузьма, это верно.
— Принял он меня в столовой, где все уже было готово к обеду. Берут бутылку: «Гляди, образованная, шешнадцать рублев стоит, а я ее сей минут выпью и беднее не стану. А тебе за бутыль два месяца горб гнуть. Что оно, твое образованье? Чуешь, какая сила в богатстве?» Ну ты — богатый, ну ты — сильный, но зачем же издеваться над людьми? Зачем он так?
— Жалованье-то отдал хоть? — озабоченно спросила Анна Михайловна.
— Как собаке кость выбросил…
— Вот и хорошо, — успокоилась Анна Михайловна. — Мог и не дать — он дурной ведь, Кузьма-то. Сам годов до тридцати, считай, голяком ходил. А тут богатство свалилось и возгордился. Ты покорись, Аленька, свою гордость про себя разумей. Ихняя власть, ничего нам с ними не поделать…
Алевтина Федоровна прижала руки к груди и заходила по кухне. На столе стояла керосиновая лампа, и невероятно длинная тень учительницы металась по стенам, изогнуто кривилась на потолке.
— Невежда! И мы во власти этих невежд! Подумайте только — он попечитель учебных заведений. Он — безграмотный сморчок!
Алевтина Федоровна тяжело вздохнула.
— Если бы вы знали, как трудно жить, да еще одной…
— Замуж выходите, Аленька, — сказала Анна Михайловна.
Учительница пристально посмотрела на нее.
— Не разрешено! — И повторила: — Не разрешено!
— Это еще почему? — всплеснула руками Анна Михайловна.
— Аннушка, как вы не понимаете: школу построили сестры Разумовские на унаследованные от отца деньги. Почему они остались старыми девами, я не знаю, но они не разрешают тем, кто у них работает, ни жениться, ни выходить замуж. Сразу же с работы долой!
— Батюшки! Да что же это такое? Ведь они жизнь вам калечат, Аленька! — заволновалась Анна Михайловна. — Как же это можно — без мужа, без детей…
Она взглянула на своих сыновей, молча сидевших у порога, и замахала руками:
— Киш вы отсюда, пострелята! Нечего наши разговоры слушать! Спать айдате!
Ребята нехотя поплелись на сеновал. Сережа послушно стал укладываться спать. Виктор уселся в проеме. Гор уже не было видно, на месте пруда серело туманное пятно. Город светился редкими и тусклыми огоньками.
— Вить, а богатые все такие?
— Все злыдни, до единого! — решительно ответил брат. — Отобрать бы у Кузьмы богатство — вот бы ладно было!
— А можно?
— Можно. Слыхал про разбойников? Отберут у богатых и бедным отдают.
— Так то ж разбойники…
— Разбойники тоже люди. Как и мы с тобой. Я вот погляжу, погляжу, да и…
Не сказал брат, что он сделает, но и так понятно: в разбойники уйдет. Ему — что, большой, все может делать. А Сережка с мамкой останется — как хочешь, так и живи… Горько стало ему, колючий комок застрял в горле. Сережа потянул в себя воздух и неожиданно всхлипнул.
— Ты чего? — спросил Виктор.
— Ничего, — ответил Сережа и укрылся тулупом.
Потом украдкой выглянул: все еще сидит брат в проеме, вниз на город смотрит, о чем-то думает.
А Витя все думал о Шмарине. Все знают, что Кузьма — плохой, жадный человек. Но почему никто не смеет и пальцем против него пошевелить? Словно царь какой-то. Вот сговориться бы и перестать бояться: что он один сумел бы сделать против всех? Ничего!
Тихий, темный, невидимый городок лежит внизу, на дне долины. Все меньше и меньше становится огоньков, люди ложатся спать. Только в одном доме ярче, чем в других блестят окна, даже на темную поверхность пруда положили светлые золотистые полосы. Там оно, паучье гнездо, шмаринский дом. Сидит, поди, богатство свое пересчитывает…