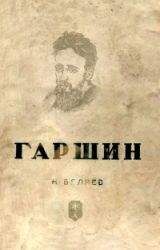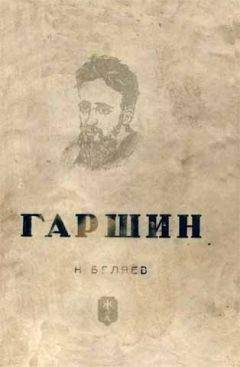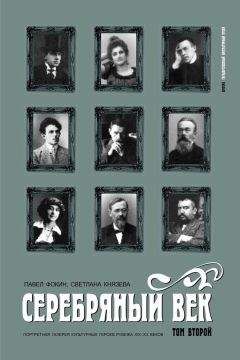Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
…Присутствие Санина на спектакле за кулисами всегда играло роль сдерживающего начала для участвующих. Он не позволял актерам распускаться. Если он замечал в спектакле грешки какого-нибудь актера, он приходил к нему в уборную и говорил:
– Дорогой мой друг, ты сегодня что-то играл не так, как прошлый раз. В чем дело? Тебе нездоровится или что-нибудь тебе помешало?
Провинившийся актер надолго запоминал этот визит Санина. …Работать с ним было большим наслаждением; работалось легко и очень продуктивно» (Н. Монахов. Повесть о жизни).
САПУНОВ Николай Николаевич
Живописец, театральный художник. Ученик К. Коровина. Один из основателей группы «Голубая роза». Участник выставок объединения «Мир искусства». Работы в театре В. Комиссаржевской «Гедда Габлер», «Балаганчик», в «Доме интермедии» «Шарф Коломбины», «Голландка Лиза», в театре К. Незлобина «Возвращение Одиссея», «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве». Приятель А. Блока. Утонул в Финском заливе.
«Как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склоненный, как сломанный, – бледно немел Сапунов, вид имея такой, что вот-вот опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он» (Андрей Белый. Между двух революций).
«Сапунов вел очень „рассеянную“ жизнь. Много пил и кутил и страдал от этого – по Достоевскому. Нисколько не хочу сказать, что художник следовал литературным образцам в своей жизни. А только то, что жизнь его было бы под силу описать Достоевскому, и, пожалуй, великий романист от этого бы не отказался» (В. Пяст. Воспоминания о Блоке).
«На набережной Васильевского острова, там, где всегда было много всяких кораблей, кажется, у 20-й линии, стоял маленький отель-особняк, не то голландского, не то норвежского стиля; там и жил постоянно Сапунов, занимая квадратную, не очень большую, но светлую комнату, из окна которой виднелись мачты и трубы кораблей. Почти никакой мебели в комнате Сапунова не было; но по стенам и по красному, крашеному полу были развешаны и разбросаны полотнища его произведений.
Вещи, которые писал Сапунов, поражали, прежде всего, замечательными тонами его красок: в них чувствовалось чудесное старое мастерство, словно одухотворенное дыханием утонченной современности. Особенно удавались Сапунову всякие карнавальные изображения из области тех же театральных масок, так пьянивших тогда современников.
Вот уж, поистине, можно сказать о Сапунове, что это был фантаст сверх всякой меры и в искусстве, и в жизни. У этого человека не было часов, отличных между днем и ночью; он знал только одни часы – глубокого, скрытого в себе творческого напряжения, от которого он освобождался только тогда, когда оно пресекалось, причем случалось ли это днем или ночью, – для Сапунова было не важно… Как он жил, что он делал – об этом почти никто ничего не знал, ибо Сапунов на этот счет был очень скрытен – и не из жадности, скупости или вражды к людям, а просто, как мне кажется, в силу владевшей им исключительной стихийности, которую он прятал под очень большой выдержкой и редко перед кем обнаруживал.
Теперь картины Сапунова и все его эскизы к различным театральным постановкам и костюмам являются большой ценностью и редкостью; но и тогда они очень ценились, потому что Сапунову совершенно чужда была способность спекулировать своим мастерством и талантом; он чрезвычайно редко, с большим выбором и капризно, брался за ту или иную работу, и то только тогда, когда его действительно что-либо захватывало и увлекало до конца. Заманить же Сапунова на работу просто ради выгоды было почти невозможно, хотя многие и пытались это делать. В богеме же он был щедр, как никто, разбрасывал свои дары с безумной расточительностью, но и здесь был строг и разборчив и, как никто, обладал изумительным чутьем отличать золото от мишуры.
Все это в целом привлекало к Сапунову, и в памяти многих он до сих пор живет как один из самых увлекательных, настоящих, богато одаренных художников.
…Сапунов, как многие большие художники, особенно кисти, не любил очень много убеждать; несмотря на то что он был сам по себе прекрасный рассказчик, во многих случаях он предпочитал молчание всему. Но в своем молчании Сапунов, надо сказать, знал и видел все. От его пытливого взора ничто не ускользало. Им он словно разоблачал всего человека до конца и умел замечательно отличать фальшивое от настоящего. Подобных взоров, подобной пытливости, разумеется, не все выносят. Ко всему тому, Сапунов всем своим существом вносил немало беспокойства всюду, где бы ни появлялся… Стихия была истинным его призванием, а не одной лишь преемственностью и случайным ее увлечением. Недаром и в его внешности было что-то от стихии, от глубокого востока, что-то суровое, азиатское, татарское; он был коренаст, сравнительно небольшого роста, с лицом слегка скуластым и упрямым, словно высвеченным крепким резцом, как все татарские лица. „Сапун“ – настоящее древнетатарское слово, и оно корнем сидело в нем» (А. Мгебров. Жизнь в театре).
«Он был очень строг в суждениях о людях, особенно о людях, не имеющих непосредственного отношения к искусству, но от которых это последнее материально зависело, т. е. антрепренерам, директорам театров, редакторам художественных журналов, устроителям выставок и тому подобных. Но лишь стоило ему узнать, почувствовать, что при помощи этих людей, которых он только что поносил всячески, он может участвовать в деле с своею работою, он тотчас охотно соглашался, нисколько не поступаясь своими замыслами, но и не меняя своего мнения о данных личностях. Так что нужно только удивляться, как мало у него было столкновений с его, так сказать, заказчиками, которых отнюдь не щадили его насмешливость и презрительность. На работу он был очень жаден и даже ревнив, почти независимо от того, вполне ли она была ему по душе. Он был вполне театральный человек, то есть тип настоящего художника, актера – скорее уличного или площадного, который, с детства практически овладев своим искусством, относится уже безразлично к тому, где его применять: в цирке, в церкви так в церкви, на площади, в маленькой комнате, где угодно.
…Он работал всегда запоем и нерегулярно, проводя день и ночь в мастерской, – другое же время так любил болтаться, что, раз выйдя из дому, он не любил возвращаться раньше следующего дня. Ходить с ним по улицам или бывать где-либо с ним было истинным удовольствием, так как все: и дома, и витрины магазинов, и проходящие люди, – все останавливало на себе его глаз художника и вызывало неистощимые замечания прирожденного юмориста.