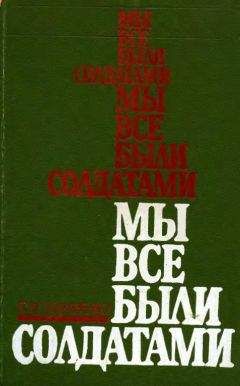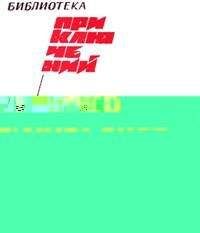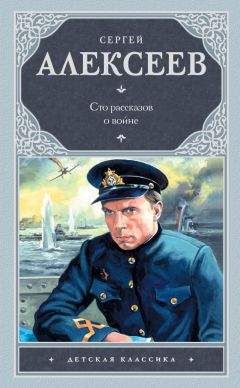Ольга Хузе - После победы все дурное забудется...
Я не знаю сейчас, помогла ли бойцам наша работа, но мы рыли так, будто копали могилу Гитлеру. И очень неприятно, что холодные жесткие люди попытались затруднить наш быт, когда в этом не было нужды. Фронт был далеко, над нами не было ни одного вражеского самолета. А сколько неорганизованности, безобразия, неразберихи было на других участках. И все это по вине людей, приставленных руководить этими работами. Мне тяжело и неприятно думать, что я рвалась вернуться оттуда - и все это из-за хамства, равнодушия к людям, безразличия к элементарным человеческим потребностям.
20.XII
Мне физически больно, нестерпимо слышать громкие слова. То, как живет сейчас Ленинград, достойно изумления без всяких громких фраз. Конечно, нужно держать голову высоко, но говорить нужно голую, суровую правду. Как ни тяжело было до декабря слушать сводки Совинформбюро, но смотреть суровой правде в глаза достойнее, чем прятаться за обиняки и недомолвки. Я никогда не забуду, как искусно была завуалирована формулировка об оставлении Одессы, - внешне как будто все прилично, а потом через несколько дней читали сообщение о чудовищном еврейском погроме. Иногда я с тоской думаю, что гладкие радиоочерки о подвигах на фронте ловко создаются профессиональными приемами литературных дел мастеров. Очень они звучат на один голос, враг изображается упрощенно, вульгарно, это постоянно или зверь, или глупый Ганс. Я больше доверяю изображению зверя, доверяю Эренбургу. Но в наших передачах мерзнут только немцы - нашим тепло, голодают немцы - наши сыты до отвала, потери несут немцы - мы идем без потерь. Но ведь мы-то, слушатели, - взрослые люди и знаем, что каждый час падают наши, и нужно об этом достойно и серьезно сказать, чтобы опять не оказалось, что мы счастливчики в сорочках и будущее счастье свалилось на нас, как в сказке. Счастье будущих поколений будет куплено кровью и смертью целых поколений, участвующих сейчас в войне. Пусть этого никогда не забудут. <...>
21.XII
Ужасающий двадцатиминутный обстрел нашего района. Убитые и раненые на Ситном рынке и на проспекте Горького. Дырка в Биржевом мосту. Убитые и раненые на мосту. Это месть врага городу.<...>
Курганские библиотекари. В первом ряду 2-я слева Е. Н. Долганова, 3-я О. Ф. Хузе, 4-я В. А. Ользен-Энгель; во втором ряду 3-й слева Б. М. Грецкий, 5-я слева Р. В. Шнурова. 1940-е гг.
Смертность страшная: гробов на саночках уже не считаешь и не замечаешь. Лица мужчин или опухлые желтые, или мертвенно-землистые. Люди идут медленно, слишком медленно. Я ежедневно вижу падающих от бессилия, как падают изможденные лошади. Ну что ж, ленинградцы держались и держатся сурово, собранно, терпеливо, и те, кто переживут, - заслужат уважения всего мира. Нам хуже, чем лондонцам - они не были окружены блокадой. Нам хуже, чем москвичам: им не пришлось держаться так долго. Мы держимся. Что ж нам остается? Меня приглашает Клейнер на совещание директоров школ и заведующих райбиблиотеками. Не хочу идти, не хочу видеть никого из высокопоставленных, они безмерно раздражают. <... >
24.XII
Вчера по радио передавали, что говорилось на городском совещании директоров школ. С точки зрения исторической перспективы - верно, достойно, героично. С точки зрения вполне правдивой картины школ сейчас - конечно, лживо. Может быть, есть несколько школ, где тепло и светло, где учителя вполне обеспечены добавочным питанием, - но, повторяю, это красивая дипломатическая ложь для Москвы, заграницы и еще не знаю для кого. Я бы хотела, чтобы было больше правды.
А правда вот что. Люди тысячами роются в пепелище Бадаевских складов и лопатами роют землю, в которую впитался мокрый, сгоревший сахар. Наше несчастье сейчас настолько глубоко, что не хочется судить и рядить, кто виноват, но, несомненно, есть виноватые, и не из нас, рядовых граждан. История судить их не будет, после победы все дурное забудется. <...>
31.XII.41
Последний день 1941 года. Сообщение Информбюро о взятии нашими Феодосии и Керчи. Вчера пошел первый поезд от Тихвина до Волховстроя. Это все радости, новогодние подарки.
Из нашего быта. Получила соевые конфеты с привкусом свечки. Но очень рада, просто стосковалась без сладкого. Вина не стала доставать - чудовищные очереди. Между сводками информбюро и работами укладывается вся наша жизнь с августа. А работа? Работа была и есть наша радость, то, что заставляет забывать ежедневные невзгоды и роднит нас со всей тыловой частью страны. В библиотеках мороз, стынут чернила, но читатели приходят за книгами, каталог создается и обновляется - упрямая советская жизнь идет в городе, вокруг которого облег враг с августа.
Вот и вечер - канун Нового года. Это самый необычайный канун за всю мою тридцатидвухлетнюю жизнь: поужинали в 8 часов, светит коптилка, слышна артканонада, - кто стреляет - на разберу, наверно, те и другие. <...>
(Прерываю записывать, уж очень близко два раза разорвалось).
Грустно мне, больно мне, хотя не время еще грустить и считать раны. Печаль и боль давят, нет слез печали, мы только плачем от радости и надежды. Через нашу жизнь острой, черной чертой легла война, и ... я уже не та. Может быть, упадок физических сил сказывается, может быть, если переживу, - все перепашу, забуду и возрожусь к новой жизни, но это или невозможно, или очень- очень далеко. Довоенная жизнь, начиная с мелочей быта, кончая отвлеченными интеллектуальными интересами, отошла в далекое, почти легендарное прошлое.
Что трудности 1918 года! Все, кто помнят те годы, говорят, что то было ерунда по сравнению с настоящим. Ты прости, но я опять беру примеры из области еды: 100 граммов хлеба - 30 рублей, килограмм - 300 рублей на рынке. Модельные туфли котируются в 300 граммов хлеба. Коробок спичек - 5 рублей, папиросы «Красная Звезда», рублевые, в 8-10 рублей, конфетка подушечка - от 1 до 5 рублей. Самое дорогое на рынке - жмыхи и хлеб. Гробы делают только за хлеб, могилы роют за хлеб - 250-300 граммов. Плитка семирублевого шоколада - 90-100 рублей. Печурка- времянка - два кило хлеба.
Мы не съели этой осенью ни одной картофелины, морковинки, ни одного яблочка. Ни овощей, ни фруктов мы не видели совсем. Я мечтаю о мерзлой картошке, и не верю, и не надеюсь, что мы ее получим.
А о том времени, когда булочные ломились от горячих булок, сдобы и пирожного, я думаю, как о сказочном пряничном домике, и мне кажется странным, что все это было, и я сама покупала, что хотела.
Нашей психике пришлось за короткий срок вынести и привыкнуть ко многому. День стоил месяцев, а месяц - многих лет. Конечно, мы, казалось, миновали самое страшное - оккупацию, но и трепет и напряжение этих месяцев стоили всем дорого. Мы проходим если не круги ада, то чистилище, где ни ночь, ни день, ни свет, ни тьма, ни радостная надежда, ни безнадежная скорбь, а только ожидание и вера в то, что о нас помнят и думают в Кремле.