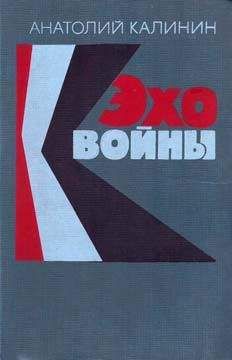Луиза Гладышева - Нива жизни Терентия Мальцева
…И вот уже только пятнадцать верст из оставшихся позади тысяч отделяют его от дома.
— Это ж надо встретиться! — удивлялся земляк Яков Панфилович, не сразу узнавший в тощем, заросшем щетиной солдате мальцевского мужика, сына Семена Абрамовича. Они сели в поезд в Богдановичах и теперь доехали до последней станции перед домом — Лещево-Замараево. — А сказывали, будто сгинул ты без вести в неметчине.
— И правда сгинул, — улыбался Терентий. — Не единожды помирал, да снова рождался. Сам-то как, Яков Панфилыч?
— Да вот, вишь, живой. Контру всякую добивали. Управились, домой счас. Слыхал про землю-то? Вся наша земля, мужицкая. По декрету Ленина отписана немедленно безо всякого выкупа.
— Как не слыхать? Доходили вести…
Неторопливо рассказывал Терентий про горькие годы на чужбине. Временами, будто со стороны слушая собственный голос, вдруг пугался: неужто через все эти муки прошел? Яков Панфилыч сочувственно качал головой, на широком рябоватом лице его дергалась еле заметная жилка.
— Нас ить предательски захватили, взяли без единого выстрела. Вечером предупредили, чтобы не стреляли, будто возвернется с вражеской стороны полковая разведка, в белых маскхалатах будет. Заставы и пропустили. А оказалось, не наши — немцы. А уж как издевались охранники, когда погнали нас по Галиции, да в Курляндию. В Митаве лес рубили. Там и про революцию узнали. Надеялись: теперь войне конец, домой вернемся. А вместо дома — в Германию попали. Там совсем невмоготу стало… — Терентий нащупывает зашитую в ветхую посконную рубаху картонную карточку и, глядя на краснозвездный шлем Якова Панфилыча, переходит на шепот: — Слушай-ка, Яков Панфилыч. Я ведь на войну уходил, крепко в бога верил. И на фронте, и в лагере все за царя молился: «Помоги, бог, царю победить! Боже, царя храни!»
— Да, брат, — поддержал Яков Панфилыч. — Сколько голов положили за царя и отечество…
— Потом уж дошло до меня: царь — приставка, не более, отечество и без него отечество. Сам, может, еще бы блуждал по темноте своей, да добрые люди помогли. Вот был у нас Ванюха из Вологды — до чего хорош парень, из мертвых весельем поднимал. Расстреляли Ванюху в лагере за сомустительство к бунту… Голодом морили нас, работой тяжелой давили. Вот и не вытерпели, поднялись…
Терентий снова нащупывает на груди карточку. Все, что на ней написано, он знает наизусть:
«Комячейка лагеря Кведлинбург. Русская секция при коммунистической партии в Германии. Удостоверение № 8. Дано сие от комячейки лагеря Кведлинбург товарищу Мальцеву Терентию в том, что он, состоя в коммунистической группе лагеря с 1 февраля 1920 года, проявил себя как активный работник в организации рабочих команд, в выполнении возложенных на него поручений и в несении обязанностей члена лагерного комитета, что подписью и приложением печати удостоверяется».
…Немногие из пленных солдат были грамотны. А Мальцев умел бегло читать и писать, знал уже и по-немецки, разбирал, что в венгерских газетах сообщалось. Газеты проникали за колючую проволоку разными путями. Но чаще всего их проносили, запрятав в лохмотья, пленные из рабочих команд. Сбившись в кучу, обитатели барака жадно ловили каждое слово: что там, в России?
А в России — Октябрьская революция. В России — Ленин.
— Ленин карашо! Ленин — мир! Капут войне! — улыбался лояльно настроенный часовой. Как не радоваться ему миру, поди тоже есть дом, жена, дети…
Как-то попала Терентию пачка газет «Русский вестник». Глазам не поверил, еще раз вгляделся: в Шадринске, Далматове — бои… «Что же такое на свете деется? И туда, за Урал, война пробралась…» Еще острее сдавила тоска сердце: живы ли отец с матерью, жена Прасковья?
Скудны вести с родины. В газетных сообщениях непонятные названия: «Советы», «Коммуна», «гражданская война». Что значит гражданская? Во имя чего? Советской власти? Что за власть такая, что всем богатеям до нее дотянуться хочется — и из Германии, из Англии, Польши, Франции?
— Послушай, Мальцев, — на плечо ложится крепкая жилистая рука. Это Орлов, большевик из Тулы. — Ты крестьянин, я рабочий. Это наша с тобой власть, Советы. Кто нам так просто подарит ее? Помещики, капиталисты? Вот за нее и воюют. Что тебе, крестьянину, всего дороже на свете? Земля. Дала тебе Советская власть землю. Справишься ты с ней в одиночку? Нет, не справишься. Объединяться надо, сообща выбираться из вековой нужды и рабского труда. Вот тебе и коммуна. Только вместе, только с рабочим классом. За это борется партия большевиков, за это стоит Ленин. Вот почему нас ненавидят капиталисты. Всем миром набросились, разорвать хотят на куски, да кишка тонка.
— Точно, тонка кишка! — подхватывает Терентий. — Разве теперь революцию остановишь? Немецкие рабочие бастуют, в Венгрии революция. Проснулся народ, силы пробует. Вот организовали мы в лагере свой комитет, насколько легче стало, будто ожили.
— Товарищи! — обращается к собравшимся член лагерного комитета Штиглиц. — Завтра Первое мая. В день солидарности пролетариев мира проведем маевку вместе с немецкими товарищами!
Загудел барак, заперекатывались горячие речи:
— На маевку все! Объединимся, тогда нас не возьмешь!
— Домой, скорей бы домой! Там свобода, земля, новая жизнь. Уж мы не отстанем, мы с Советами!
И вдруг в полутемном сером бараке словно вспыхнул пламень: Штиглиц развернул вытащенный из тайника сверток, и красное полотнище заиграло румянцем на лицах узников, загорелось огнем в яростных глазах.
— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — отчетливо и торжественно произнес Штиглиц. — Пиши, товарищ Мальцев, на материи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» С этим лозунгом мы пойдем на маевку!
Расстелив полотнище на щелястом, тщательно вымытом полу, писал Терентий лозунг. Самодельная кисть красила неровно, и буквы получались то жирные, то тонкие, и он до утра выводил, выравнивал их.
— Вот только не знал я, как быть с последней буквой, — продолжал свой рассказ Терентий. — Слышал, будто в новом алфавите букву «ять» упразднили, а мягкий знак то ли оставили, то ли нет, никто из наших не знал. Штиглиц подумал, подумал и рукой махнул: «Пиши, как знаешь!» Я и написал без мягкого знака, решил на свой ум так: ежели власть твердая, то мягкий знак ни к чему и слова должны твердо звучать.
— Ну, грамотей, ну, политик, — рассмеялся Яков Панфилыч. — Все правильно рассудил. Твердая власть наша, это точно.
За разговорами скоротали ночь, а утром подвернулся возница, согласился отвезти их в село. В санях лежал ворох соломы, сунули в него ноги в худых ботинках: февральский мороз крепкий.