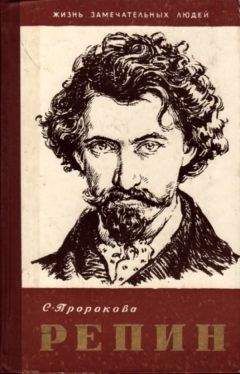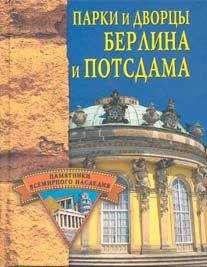Софья Пророкова - Кэте Кольвиц
Ф. Энгельс называл Конрада «Маленьким Шмидтом из Берлина» и заинтересованно относился к его научным трудам.
А пока Конрад рассказывал о своих первых впечатлениях от знакомства с Энгельсом, о глубине его мысли, остроумии и смелости неожиданных суждений.
В открытые окна врываются ароматы цветов и влажных листьев. В бокалах искрится вино. Звучат стихи. Незабываемый вечер. Так вспоминалось о нем: «Мы были молоды, восхищены. Чудесное начало жизни, которая постепенно, но неудержимо раскрывалась передо мной».
Гауптман был у порога своей известности. Очень скоро на сцены берлинских театров выйдут герои его произведений. Через несколько лет они породнятся с героями композиций Кэте Ко львиц.
Путешествие продолжалось. Почти неделю Шмидты пробыли в Мюнхене. И вновь открытия, новые впечатления. Теперь это мир искусства. Мюнхенская пинакотека, в которой юные художницы впервые стояли перед прославленными полотнами.
Обычно бывает так, когда видишь много новых произведений искусства, какое-то одно самое сильное впечатление заслоняет все остальные. Оно главенствует.
На сей раз это был великий Рубенс. В Мюнхене превосходное собрание его произведений. Кэте стояла возле «Битвы амазонок», дивясь, с какой свободой мастер изобразил самые невероятные положения человеческих тел, вздыбленных лошадей. Борьба происходит на узком мосту без перил. Сваливаются под мост опрокинутые лошади, поверженные тела. Самозабвение боя передано с невероятной силой и темпераментом.
Она любовалась красотой и мягкостью обнаженных женских тел в «Похищении дочерей Левкина»; замирая от удивления, разглядывала грандиозную мощь эскизов к «Страшному суду», вместе с Рубенсом преклоняясь перед мятежной и манящей красотой природы и вещей; отдыхая от сложных многофигурных композиций, переходила к картинам позднего Рубенса — лирическим портретам жены с детьми.
Впечатление ошеломляющее. Преклонение перед гениальной кистью находит свое выражение в коротких записях на полях маленького томика стихов Гёте: «Рубенс! Рубенс! Ранние стихи Гёте! Мой храм построен…»
И с тех пор: «Гёте, Рубенс и мои собственные чувства — всегда единое целое».
Так видеть и так чувствовать произведение искусства может только художник. Ему дано сопереживать с великими мастерами кисти, ему дано оценить силу дарования.
Рубенс покорил мощью и смелостью, поразительной свободой рисунка и бьющей через край любовью к красоте человеческого тела.
Кэте, может быть, не могла еще ясно дать себе отчета, почему так захватил Рубенс. Но ее влекли эти округлые объемы, властно приковывала стремительность движений.
В ней еще неясно бродила собственная тяга к монументальности. И впервые она увидела ее воплощенной в столь поразивших композициях великого фламандца.
Теперь три путешественницы отправились в горы. Они были похожи на трех сестер, такой молодой выглядела мать, несмотря на свои сорок семь лет.
Маленькие вагончики медленно плелись по узкой колее, словно игрушечные, из какого-то сказочного путешествия.
Мать заняла место внизу, сестры вскарабкались на верхние полки. Смотрели в окна. Зеленые холмы мелькали перед глазами. Девушки пели громко и весело. Пели от полноты души, от молодости и предвкушения радости.
Талантливая Шмидт
Первый автопортрет, нарисованный в восемнадцать лет. Юное веселое лицо. Хохочущий рот, смеющиеся глаза, беззаботность.
Такой Кэте Шмидт приехала в Берлин, поселилась в пансионе и поступила в женскую рисовальную школу.
Отец верил в ее большое предназначение. Как она говорила потом: он «уже в детские годы предопределил меня для искусства». Но он же не раз повторял с досадой, что надо бы ей родиться мальчиком, тогда легче было бы стать художником.
Сейчас — препятствия на каждом шагу. Даже в академию девушек не принимают, и приходится довольствоваться рисовальными школами для дам, вместо того чтобы получить серьезное художественное образование.
Дочь отпустили в Берлин на один год. Она и сама так считала — год этот пробный, он покажет, правильно ли избран путь.
В школе Шмидт познакомилась со многими одаренными девушками. Очень сблизилась с Эммой Еэп, утонченной, изысканной, которая как-то сразу потянулась к новой ученице.
Они звали друг друга по фамилиям. Просто Шмидт и Еэп. Пройдет много лет, они выйдут замуж. Одна своими рисунками прославит на весь мир имя Кольвиц, другая станет популярной писательницей Беатой Бонус. Но друг для друга они останутся навсегда Шмидт и Еэп. Эти девичьи фамилии напоминали о молодости, рисовальной школе, когда впереди были только надежды.
У Шмидт, правда, было и еще одно прозвище — забавное. Брат Эммы, увидев ее, воскликнул:
— Она похожа на Тинтаролло.
Так называли в Италии детскую глиняную копилку с острым носиком и щелочкой рта, в которую бросали монету. Она звенела при этом вроде тинта-тинта. Отсюда и название. В самые нежные минуты подруга называла ее Тинтаролло. Это было звучно и смешно. А Шмидт ведь всегда так любила веселое и умела удивительно смеяться, самозабвенно и чистосердечно.
Вот какой Эмма запомнила подругу из Кенигсберга в первый день их знакомства:
«Она была одета в платье, вытканное из скромной небеленой шерсти и казалась бесцветной от шеи до ног. Цветной у нее была только голова… Крутая шейка и слегка приподнятый подбородок… очень темные глаза, которые смотрели не перед собой, но вдаль и все отражали, что проходило перед ними. К этому добавлялись скромно, на пробор причесанные волосы… На затылке они образовывали заплетенный узелок. У лба выбивались маленькие шелковистые волосики, своевольные, но со скрытой прелестью».
Шмидт сразу пригласили в класс, где рисовали живую модель. Еэп пока штудировала гипсы. По вечерам они были неразлучны, вместе изучали основы анатомии.
Многие годы президент Академии искусств Макс Либерман просматривал работы, сделанные девушками в натурном классе Берлинской рисовальной школы. Он сказал о ранних работах Шмидт:
— Никакого удовлетворения не давал просмотр тридцати таких рисунков, пока я, внезапно пораженный и удивленный, не натолкнулся на одну работу — рисунок руки и ноги, автором которой была Кэте Шмидт.
Но она уже изведала первую горечь неудач. Их принесли краски. Порой даже казалось, что не стать ей художницей, раз живопись остается чужой. Подруги замечали, что в натурном классе Шмидт писала портреты не лучше, чем они, ничем не выделялась.
Зато в рисунках она была необузданна и порывиста. Никто лучше ее не передавал движения фигур, выразительных поз. Она уже распоряжалась человеческим телом с той свободой, которая выдает сформировавшегося художника.