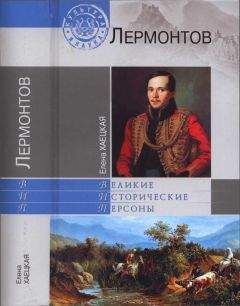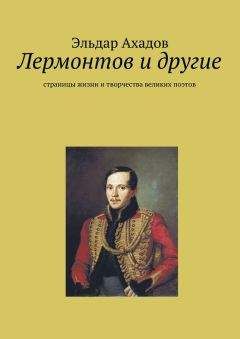Виктор Афанасьев - Лермонтов
Миша перечитал поэму. Читая, он поминутно возвращался к портрету, жадно впиваясь глазами в черты человека с «необыкновенным даром». Этот человек здесь был. Вот он вспоминает «пасмурный Бешту» и «его кремнистые вершины». Он был здесь с другом, с которым «сердцем отдыхал», «делил души младые впечатленья». Странно было, оторвавшись от книги, видеть наяву эти самые «кремнистые вершины»...
Кудрявый «автор» угадал тайну снежных гор. Он понял, что там таится «дикий гений вдохновенья»... Дикий!.. И он сумел вызвать этот гений, заставить служить себе.
История пленника и черкешенки необыкновенно увлекательна. Какие страдания! Какая любовь! И все это в горах, в черкесском ауле, на берегах горной реки. Как живо Лермонтов представил себе пленника, вынужденного пасти черкесских овец, когда он смотрел утром «на отдаленные громады седых, румяных, синих гор»:
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом.
Буря в горах... Разнообразный быт черкесов... Их схватки с казаками... Какие картины! Они так и будут теперь стоять перед глазами. А свидания пленника и великодушной черкешенки — эти таинственные ночи, шепот, опасность быть замеченными... С бьющимся сердцем Миша читал:
Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась...
Шли дни. Миша не расставался с книгой. Но сколько бы раз он ни перечитывал поэму — ее конец ужасал его: прекрасная черкешенка не вынесла разлуки с русским. Она бросилась в реку. Погибла... Миша всей душой понимал, с какими чувствами пленник, переплывший реку, возвращался домой, хотя автор повествует об этом по видимости спокойно.
Миша снова и снова взбирается по тропе на Машук. Вот и казачий пикет. Еще бы повыше, хоть немного... Эльбрус виден хорошо лишь утром, когда солнце, встающее из-за Машука, высвечивает его снега. Днем его едва видно, а часто он и вовсе закрыт облаками.
Это было действительно чудо — прочесть «Кавказского пленника» там, где он был задуман, и тем самым слить поэзию с природой. Нет, из этого должно выйти что-то такое, что перевернет или сожжет всю душу! Должно... Но он не мог предвидеть того, что произошло вскоре.
Как-то он вбежал в комнату и увидел незнакомую девочку, которая играла в куклы с одной из его кузин. Девочка эта, белокурая, с быстрым взглядом голубых глаз, внимательно посмотрела на него и отвернулась. Они продолжали игру. Миша их больше не интересовал. А он, слушая их говор и смех, прислонился к косяку, не в силах ни войти в комнату, ни сказать что-нибудь.
В смятении выбежал он из дома, не понимая, что с ним сделалось. В глазах стояли белокурые волосы, чистый, прекрасный лоб и голубой — небесной голубизны — взгляд. Миша повернул назад и подошел к дверям — ему хотелось сейчас же снова увидеть эти глаза. Вот уже слышны голоса девочек... Неожиданно для себя он заплакал. Вдруг отворилась другая дверь, и появилась бабушка. Не замечая в сумраке коридора его слез, сказала:
— Миша, поди к девочкам. Там... — Она назвала имя маленькой гостьи...
— Нет! — быстро ответил он. — Нет. Я иду в сад.
И вот он в саду. Один. «Кавказский пленник» с ним. Он не знает, что происходит, но чувствует, что все это тесно сплетено и не может существовать друг без друга — девочка с голубыми глазами, его слезы, поэма о Кавказе, приглушенные звуки зурны и бубна, доносящиеся с улицы, и далекая цепь снежных гор...
«И неужели все это пропадет, когда я отсюда уеду?» — думал он. Отъезд начал его пугать. Слава богу, что он еще не так близок... Он открывал книгу и читал наугад, что попадется:
Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз;
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь...
Миша повторял, задумавшись: «Небесный пламень упоенья...» Вот как называется то, что у него сейчас на душе! Других слов найти нельзя.
Старшие кузины — сообразительные девицы — быстро заметили Мишину любовь. Он не мог скрыть волнения при виде голубоглазой гостьи. Никогда к ней не подходил. Убегал, когда с ним заговаривали о ней. Дичился ее и не мог заставить себя войти в комнату, где была она. А уж когда стали над ним посмеиваться, когда стали нарочно его поддразнивать, — он возмутился, но молча и стал избегать всех.
Так вместе с любовью стало расти в нем чувство одиночества, раньше совсем ему неизвестное.
Случалось, девочка не приходила в дом Хастатовой по нескольку дней. Это было пыткой для Миши. Ему нужно было хоть на миг, хоть издали, но увидеть ее. Он страдал и еле сдерживал слезы. Прятался ото всех, когда было невмоготу, чтобы выплакаться в одиночестве. Но «тайный глас души» — эти прекрасные слова нашлись в поэме — не достигал цели — ее сердца.
Он отбился от кузин, которые почти все приходились ему тетками, и стал проводить время с Марией Акимовной Шан-Гирей и ее детьми — Акимом шести и Катенькой двух лет. Мария Акимовна, красивая смуглая жеищина с живыми черными глазами и тонкой талией, казалась Мише горянкой. Да и родилась она на Кавказе, на Тереке, с детства привыкла к горам. Мать ее была сестрой Мишиной бабушке, а отец — генерал, армянин — давно умер. Муж, Павел Петрович — офицер, немало повоевавший с горцами на Тереке и Кубани. Он тоже походил на горца — опаленный солнцем, одетый по-черкесски. Свою службу он начал в 16-м Егерском полку, стоявшем пятнадцать лет назад возле Горячеводска, в Константиногорской крепости, откуда полк выходил на усмирение «хищников», как называли тогда воюющих горцев.
Из рассказанных им историй особенно любопытна была одна — о разорении «разбойничьего» коша (кош — пастушья стоянка с временным жильем и загонами для скота) возле Бештау. Этот кош устроил кабардинский князь Измаил Атажуков, который служил в русской армии, воевал под командой Суворова и достиг чина полковника. Атажуков, посланный в Кабарду для того, чтобы уговорить соотечественников не сопротивляться русским, стал подстрекать их к восстанию. В кош стеклось уже много кабардинцев, ответивших на его призыв, но тут были двинуты против них русские полки. Вспыхнули аулы, которых тогда немало было в окрестностях Машука и Бештау.
А Миша вспоминал:
Всё русскому мечу подвластно,
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!..
У Марии Акимовны был альбом. Небольшой, изящный, в переплете красного сафьяна, с серебряной накладкой на нем и замочком в виде бабочки, тоже из серебра. Он лежал на столике в комнате Шан-Гиреев, поблескивая темной позолотой обреза. Его разрешалось смотреть всем.