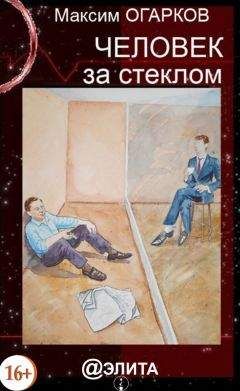Иван Тургенев - Гоголь
С Жуковским я больше не встречался.
* * *Крылова я видел всего один раз – на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами – и хоть бы слово промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облекали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени – и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять, что он, слушает ли и на ус себе мотает или просто так сидит и «существует»? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице – а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может – или не хочет – пробиться сквозь весь этот старческий жир… Хозяин наконец попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреич», – заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то намешливо… «Так-таки непременно поросенок?» – казалось, внутренне промолвил он – грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом.
* * *Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш…ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под новый, 1840 год. У княгини Ш…ой я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. – рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток – и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу III…у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» [3] и т. д. – действительно применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш…а он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки… и т. д.
Скажу кстати два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к «diis minorum gentium» [4] и уже никак не может стать наряду с поименованными выше, – а именно о М. Н. Загоскине. Он был коротким приятелем моего отца и в тридцатых годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его «Юрий Милославский» был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман, учитель русского языка – он же и классный надзиратель – рассказал в часы рекреаций моим товарищам и мне его содержание. С каким пожирающим вниманием мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойника Омляша! Но странное дело! «Юрий Милославский» казался мне чудом совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко: впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не смогло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал его роман, но напротив – оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: это качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или далее просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок, – все в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три, тоже довольно комические, слабости: он воображал себя необыкновенным силачом; [5] он был уверен, что никакая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно), он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что далее получил в нашем доме прозвище: «Monsieur l'article».
Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях.
* * *Последнее мое свидание с ним было печально. Я навестил его много лет спустя – в Москве, незадолго перед его смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его все еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращение глаз остались те же; невольной комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которую возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности, о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении «Юрия Милославского» как народной книги… Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну, спасибо, спасибо, – сказал он мне, – а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». (Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические.) «Спасибо», – повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему и не радоваться? Он услыхал от меня, что не совсем умер… а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная, литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной брани, а там – безмолвное забвение… Да и кто из нас имеет право не быть забытым – право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления?