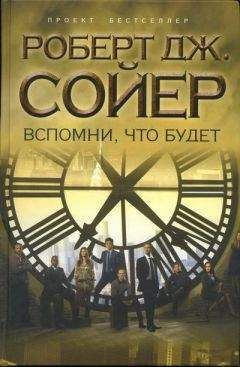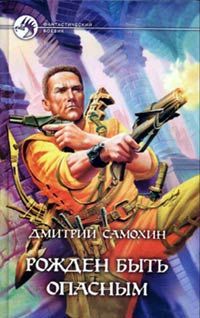Семен Резник - Мечников
А Толстой был скверным толстовцем, и толстовство его — это постоянное преодоление. Он жаждал воли, рвался на простор, бился о железные прутья клетки и нередко взламывал их, истекая кровью.
Ну как он мог объяснить Черткову, что Мечников ему интересен? Интересен, и все! Вопреки доктрине.
Кстати, Маковицкий отмечает, что, если бы не визит Мечникова, Толстой еще неделю назад уехал бы в Кочеты — к дочери Татьяне Львовне Сухотиной. Был, значит, у него отличный повод уклониться от встречи: рад-де, уважаемый Илья Ильич, давно мечтал, но сейчас не могу — к дочери уезжаю; давайте уж в другой раз как-нибудь. И не пришлось бы «готовиться, чтобы не оскорбить», не пришлось бы дурачить милую Софью Александровну…
Выходит, все-таки приезду Мечникова Толстой значение придавал, и не пустячное значение! И, может быть, вовсе не был спокоен, как зафиксировал в своих записках Душан Петрович, а лишь делал вид, что спокоен, в душе же волновался не меньше хлопотливой Софьи Андреевны.
Ведь как-никак к нему, Толстому, постигшему конечную Истину и видевшему свою миссию в том, чтобы открывать эту Истину другим, приезжал не кто-нибудь, а Мечников, который сам постиг конечную Истину… И добро бы они открыли одно и то же… Но у каждого Павла своя правда.
Чего он хотел? На что надеялся? Ведь не думал же он, что переубедит Мечникова. И не думал, конечно, что Мечников переубедит его.
Когда к крыльцу подкатила тройка, Лев Николаевич несколько замешкался у себя в кабинете и теперь быстро спускался по лестнице. Они вошли; он бросил на гостя пронизывающий взгляд, но тут же поспешил расцвести в улыбке. Протянул навстречу обе руки, перевел взгляд с него на нее и, продолжая улыбаться, приветливо сказал:
— Между вами есть сходство; это бывает, когда люди долго и хорошо живут вместе…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Нервный ребенок
У Илюши часто болели глаза; трогать их руками, а тем более плакать ему строго запрещалось. Он рано смекнул, какие может извлечь из этого выгоды, чуть что подносил кулачки к глазам и начинал хныкать.
— А я тиру и плачу, тиру и плачу…
Эмилия Львовна, и без того баловавшая детей, потакала всем его капризам.
Эмилия Львовна выросла в Петербурге, веселилась на великосветских балах; однажды танцевала с Пушкиным.
— Как вас зовут? — спросил поэт.
— Мила.
— Как вам идет ваше имя!
И, может быть, подумал, как подумал князь Андрей, глядя на танцующую Наташу: «Она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж».
…Пушкин раскланялся, отошел и тотчас забыл свой незатейливый комплимент, но Эмилия Львовна запомнила его на всю жизнь и в старости любила рассказывать:
— Он сказал: «Que vous portez bien votre nom, mademoiselle».
Она, видно, и впрямь была мила. По крайней мере, нечто подобное ей говорил еще один человек, отпрыск почтенной дворянской фамилии, офицер гвардии его императорского величества Илья Иванович Мечников.
Он женился так рано, что это вызвало пересуды в обществе. Похоже, была у него большая любовь, какая выпадает не каждому…
Образ жизни Илья Иванович вел обычный: шампанское, кутежи, карты. Приданое жены быстро таяло; в один прекрасный день выяснилось, что содержать семейство (подрастали уже два сына и дочь) не на что. Пришлось мальчиков — старшего Ваню и младшего Леву — определить в частный пансионат, а остальным перебраться в Харьковскую губернию, где у Ильи Ивановича отыскалось именьице.
«Каково было ему покинуть привычную, веселую столичную жизнь!» — вздыхает Ольга Николаевна.
Да, нелегко! Но иного выхода не было, и важно не то, что, как пишет Ольга Николаевна, Эмилия Львовна его уговаривала, а что Илья Иванович дал себя уговорить. Воображение рисует последнюю пирушку в ресторации: сизый табачный дым, стреляющие в потолок бутылки, пьяные поцелуи… И вот уже тянется по негладким российским дорогам громоздкий тарантас.
Вынужденный переезд в деревню был для него тяжелым ударом. Не о таком будущем мечтал потомок великого Спотаря Милешту!..
Летописец рассказывает, что Спотарь играл видную роль при нескольких молдавских князьях, особенно возвысился при Стефаните, который просто осыпал его почестями. Спотарь, однако, предал своего патрона: послал в полой трости тайное письмо польскому владыке Константину Себрону — могу-де свергнуть Стефанита, престол отдать тебе. Но у Константина были другие расчеты, и он переслал Стефаниту злополучную трость. Князь решил было казнить изменника, да «во уважение прошлых заслуг» лишать головы не стал, а лишил только носа. Спотарь уехал в Германию, нашел там лекаря, который «отрастил ему новый нос», и вот с новым носом он явился в Россию.
В России была острая нужда в грамотеях, а Спотарь молодые годы провел в Константинополе, изучал теологию, философию, историю, древний и новогреческий, славянский, турецкий языки. Не удивительно, что царь Алексей Михайлович взял его к себе переводчиком (драгоманом), а также приставил учить грамоте маленького Петра — будущего Петра Великого. Много еще приключений выпало на долю Спотаря (тут и многолетняя ссылка в Сибирь, из которой его вызволил воцарившийся на престоле Петр), нам их пересказывать недосуг. Однако Илья Иванович похождения своего великого предка знал хорошо. Спотарь выписал из Молдавии своего племянника Юрия Степановича; Петр сделал его мечником (дворцовый чин; на него возлагались обязанности судьи) и пожаловал ему большие поместья в Малороссии. Сын Юрия Степановича и взял фамилию «Мечников». В роду были видные государственные мужи, один из них стал сенатором. Словом, Илье Ивановичу было чем потешить свое тщеславие… И вот он во цвете лет хоронил честолюбивые мечты в далеком степном захолустье!..
Хозяйством Илья Иванович не занимался, передоверив дела младшему брату Дмитрию — «высокому угрюмому человеку», который почти всегда «молчал, курил трубку и вышивал на пяльцах». Упорный холостяк, Дмитрий Иванович смог бы прожить и в Петербурге, но из преданности семейству брата тоже променял столицу на деревенскую глушь. К Илье Ивановичу он относился с большой почтительностью, обращался к нему на «вы», величал по имени-отчеству, тот же отвечал ему «ты». С Эмилией Львовной отношения у него были иные. «Дмитрий Иванович готов был идти в огонь и в воду за Эмилию Львовну. Она это чувствовала и имела к нему безграничное доверие» — так пишет Ольга Николаевна.
Жизнь в Панасовке вращалась вокруг двух столов — обеденного и карточного. Ну, карты — это так. Не было уж тут былой удали, былого азарта. Хозяин сажал против себя, чаще всего брата, родственников, редко — заглянувшего на огонек соседа; игра шла больше «на интерес», а если делались ставки, то совсем мизерные, опять же для «интереса». Зато обеденный стол — это было самое важное. Эмилия Львовна изо всех сил старалась угодить гастрономическим запросам мужа. Меню разрабатывалось долго, с большой серьезностью, точно план генерального сражения. Так, за картами и за обсуждением достоинств подаваемых кушаний лысел и тучнел в своем уютном халате бывший блестящий гвардеец. В общем, «в деревне счастлив и рогат…». Рогат, впрочем, не был: в верности любящей Эмилии Львовны усомниться невозможно.