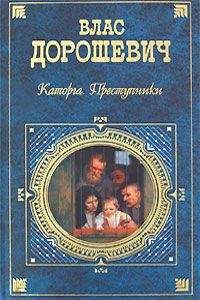Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
Поликарп Нежелеев был художник, безусловно. И художник крупного ранга. Однако, и высокого ли? Вот в чем вопрос, как говорил месье Гамлет…
Но, быть может, и та атмосфера милого вздора, в которой мне легко дышалось, необходима была миру, как антракт отдыха, завершающего предысторию человечества…
Уступаю арену серьезным».
«Антракт отдыха» — характерный перл выспреннего стиля Покровского. Зависть к таланту и успеху Дорошевича объединялась у него с четким пониманием идейных требований времени, когда писался роман. А это были суровые 1940-е годы. Король фельетонистов, герой дореволюционной буржуазной печати, безусловно, должен быть осужден. Только в этом случае сохранялась надежда на издание и более того — на успех, которого, безусловно, жаждала честолюбивая и одновременно завистливая душа автора.
Как давно зародилась эта зависть? На последних страницах романа в «потоке сознания» решившего свести счеты с жизнью Нежелеева появляется примечательное видение: «В общем, я немного устал от людей, идущих впереди. А сам уже доперся, на что на днях мне приоткрыл глаза какой-то гимназист Володя. Он протолкался ко мне в толпе и сказал:
— Когда вы умрете, я через много лет напишу о вас роман».
Что ж, очень может быть, что гимназист Володя Покровский действительно был поклонником Власа Дорошевича. А с годами поклонение перешло в жгучую зависть к кумиру сотен тысяч читателей, зависть к его необыкновенному остроумию, к легкости его пера. Дорошевич стал навязчивой идеей Покровского, бредом его жизни. Впрочем, в предисловии он, как и положено, подводит более серьезную базу под свое увлечение. Я приведу его полностью, потому что этот текст, раскрывая некоторые детали биографии автора, позволяет точнее очертить его психический склад, который можно обозначить как своего рода литературную шизофрению.
«Посвящаю этот роман двум людям, без которых он не родился бы:
1. Литератору Власу Дорошевичу, знакомство с которым личное и с его произведениями, а также с перешедшим ко мне через 19 лет после его смерти его архивом были толчками к изучению мною той среды русской журналистики, где действовал он сам, Амфитеатров и другие.
2. Моей жене и другу артистке Наталии Гриневой, творческая настроенность которой заражает меня даже в периоды разлуки, как случилось и с этим романом, писавшимся в 1942–1943 годах в землянках на болотах.
Плодотворная идея Горького об „Истории молодого человека XIX столетия“ вдохновляла меня. В русской и мировой литературах эта увлекательная тема представлена для последней четверти века еще не столь полно, как эпоха Онегина, Растиньяка, Базарова. Только поэтому я делаю попытку изображения некоторых моментов этого эпилога, разыгравшегося, впрочем, уже в начале века двадцатого. Но сказать так в предисловии — не значит ли начать проговариваться, преждевременно выдавая секреты собственного вдохновения? И хотя уже почти 20 лет назад в московском журнале „Читатель и писатель“ меня попрекали за переоценку значения фабулы, сейчас я предпочитаю больше верить Бальзаку, Куприну, Гейне, Драйзеру. Я не узнавал их личного мнения, я их читал (эта фраза — прямое заимствование из Дорошевича. — С.Б.). А покойного Алексея Николаевича Толстого не однажды слушал, когда в гостиной, кабинете или при прогулке ронял он замечания о творчестве. Таков круг разного рода индивидуальностей, влиявших на роман. К ним обязательно должен быть причислен офицер Красной Армии Б. И. Брулинский, педагог по гражданской специальности. Будучи парторгом одного из подразделений, он каждодневно появлялся в моей землянке с одним и тем же вопросом: „Ну, что случилось за ночь и что будет дальше?“ И многолюдная толпа уже кончивших или никогда не совершавших свой жизненный путь действующих лиц вновь повторяла его от главы к главе, пока роман не был кончен».
Ну все есть в этом предисловии для того, чтобы подчеркнуть право сочинителя на такой роман и более того — на общественное признание его труда. И личное знакомство с прототипом главного героя. И перешедший к нему архив. Но главное, конечно, это масштабность замысла. Руководствуясь высказыванием не кого-нибудь, а первейшего классика советской литературы Горького о важности «Истории молодого человека XIX столетия», Покровский претендует на завершение галереи «лишних людей», начатой образами Онегина, Растиньяка, Базарова, несомненных продуктов буржуазного скептицизма и нигилистической философии, согласно идеологии времени создания его романа. Разумеется, он понимает соразмерность своего дарования с Пушкиным, Бальзаком и Тургеневым и потому скромно подчеркивает, что делает лишь «попытку изображения некоторых моментов этого эпилога…»
Одним словом, сочинитель идет за мировыми величинами — Бальзаком, Гейне, Драйзером. Ненавязчиво подчеркнуто личное знакомство с А. Н. Толстым, у которого автор брал своего рода уроки творчества, как и участие в литературной полемике по принципиальным проблемам художественного труда. Как-то глухо сказано о времени и месте писания романа — «в 1942–1943 годах в землянках на болотах». Можно подумать, что Покровский воевал. Но об этом впрямую ничего не сказано. Хотя почему бы не сказать, где это было, назвать фронт, местность? Может быть, землянки на болотах — это участие в каких-то строительно-оборонительных работах, в рытье окопов? Но Покровский уходит от конкретики, ограничиваясь намеком на некую свою причастность к героике войны с фашизмом. Все-таки землянки, болота — это тоже испытания. И вот в таких условиях создается роман. Читатель должен оценить…
Впрочем, самое важное здесь другое — партийная заинтересованность в творчестве Покровского еще во время создания романа. Сочувственный интерес к работе автора, самоотверженно трудящегося «в землянках на болотах», проявляет не абы кто, а парторг «одного из подразделений». Это значит, что партия одобряла изначально труд автора. Следовательно, создано произведение, нужное обществу, «идейно выдержанное», что, безусловно, должны учесть будущие рецензенты и издатели.
И еще два момента нуждаются в обсуждении. Если в биографии автора романа было такое существенное событие, как личное знакомство с Дорошевичем, почему бы не рассказать об этом несколько подробнее, не подтвердить этого факта какой-то конкретной информацией? Увы — в рукописи ни слова нет ни о времени, ни об обстоятельствах этой встречи. Зато есть упоминание о ней в цитировавшемся выше очерке, опубликованном в журнале «Москва». Покровский пишет, что в 1920 году он «приехал из Москвы в только что освобожденный от Врангеля Севастополь, где жил в своем доме Влас Михайлович…» И, конечно, у него был повод, чтобы навестить Дорошевича. Покровский принес ему номер петроградского журнала «Вестник литературы» за 1920 год, где из-за ошибочного слуха о смерти короля фельетонистов был напечатан посвященный ему некролог. И, конечно, именно в присутствии Покровского Дорошевич сел за стол и написал остроумный ответ редактору журнала. Безусловно, все это придумано: история с прижизненным некрологом получила огласку, и Покровский решил использовать этот факт биографии Дорошевича, чтобы найти хоть какую-то точку реального, биографического сближения с ним. Выдумкой это представляется еще и потому, что если бы встреча действительно была, то Покровский непременно описал бы ее в подробностях, так, как это сделали другие писатели и журналисты, встречавшиеся с Дорошевичем в последний период его жизни, — Александр Амфитеатров, Ариадна Даманская, Владимир Нарбут, Б. Россов, Корней Чуковский, Михаил Кольцов.