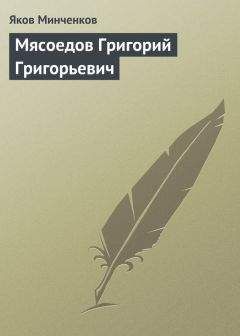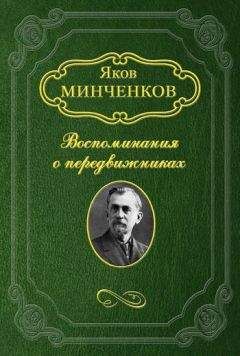Яков Минченков - Дубовской Николай Никанорович
Присматриваясь к жизни своими моральными и умственными глазами, а не только физическими, я имею обо всем свое понимание, ни для кого не обязательное.
Свое понимание я своими картинами выношу в мир. Никому это не «обидно, а многим как будто бывает даже интересно. И высказанный мне в разговоре или в форме приобретения моих произведений интерес к моему пониманию жизни сделал то, что я стал свое мнение говорить более смело. Я говорю правильно в сфере того миропонимания, к которому меня привела вся моя жизнь. Все люди, каждый человек – животное. И тем человек счастливее, чем совершеннее в нем животное. Но у каждого человека есть и интеллект. Все дело в том только, какая из сторон держит в подчинении другую. Я из своей жизни сделал фонарь. «Смотрите все, сколько хотите». Что было такого, что меня смущало в моей жизни, постепенно стало отходить куда-то. И остается все более необходимое. Может быть, много есть у меня и дурного, но уже без него, вероятно, мне и жить нельзя, так как это дурное входит в природу мою.
Прочитал все письмо и вижу, что у меня нет сил высказать свои мысли».Когда я приезжал в Петербург для организации выставки, то часто бывал у Дубовского как по делам Товарищества, так и запросто по его приглашению к обеду или на вечер. В доме Николая Никаноровича чувствовалось легко и свободно, и в то же время вся атмосфера его была насыщена содержанием. Картины, большая художественная библиотека, воспоминания о путешествиях, галереях и музеях Европы, о художниках-классиках и беседы о современных веяниях в искусстве.
Мне было даже завидно – столько Дубовской видел на своем веку и столько знал в области искусств. Суждения о художниках у него были особо здоровые, ясные и основанные на его взгляде на искусство. И хотя он признавал право на существование каждого искусства, но делил его как бы на две категории: одно – высокое, духовное и доброе искусство и другое – от животного начала в человеке, искусство, хотя часто и очаровательное, но вредное, которое он называл гашишем.
«Смотрите, – говорил Николай Никанорович про одного молодого современного художника, – красив, каналья, а, как вино через соломинку, тянет в своих картинах разврат. Горе слабому зрителю: поддастся гашишу». Или про Штука: «Вот здоровое животное! я просто любуюсь им и завидую: живет для своего тела и блаженствует без всяких анализов и угрызений совести».
Ненавидел, как только мог ненавидеть по своей натуре, Дубовской штукарей, акробатов и фокусников в искусстве. С болью говорил: «Смотрите – хорош штукарь? Как ящерица, переливается всеми цветами радуги, а изнутри, если наступить ногой, гадость выдавится».
Всякая фальшь, подделка в искусстве его коробила, доводила до болезненности, он помрачался в лице и говорил тихо, как бы сам с собой: «Ах, несчастный! Как это он пал, как ползает перед кем-то, угодничает, а ведь ничего и не получит, только даром душу свою продал».
Среди работ экспонентов, присылаемых на жюри, он ценил главным образом вещи, в которых видел переживание природы, искренность чувства, но не отвергал исканий чисто формальных.
«В искусстве, – говорил Дубовской, – много сторон, и чисто красочные разрешения нам тоже нужны, но что дороже: внешний лоск, который завтра же будет побит еще более нарядной живописью, или внутреннее, духовное содержание вещи, которое навсегда останется ценным. Форма есть средство для воплощения идеи, а не главная цель».Очень тяжелое время переживал Дубовской, когда в Товариществе началось брожение и семь крупных художников во главе с Серовым вышли из Товарищества. Он видел ошибку некоторых старых членов Товарищества, ускоривших развал, и не мог ничего сделать против этого. И если некоторые из стариков даже радовались уходу протестовавших в надежде без помехи почивать на старых лаврах, то Дубовской был другого мнения. Он говорил: «Случилось великое несчастье: мы не сумели передать старое боевое знамя передвижничества в молодые, здоровые руки новых членов. И теперь талантливая молодежь пойдет за ушедшими от нас. Идеи передвижничества изживаются, и Товарищество должно было уступить место новым лозунгам. Жизнь идет вперед, а мы упорно хотели остановить ее течение. Товарищество могло бы жить, дав возможность существованию в его рядах новым искренним течениям. И во вновь образовавшемся обществе будут разные толки в искусстве, и там тоже придется откалываться группам. А ушли от нас талантливые, чистокровные наши братья – передвижники, которые среди новых течений окажутся такими же старыми, как и мы».
Но дело было сделано, и поправить его уже не было возможности. Выбранные из экспонентов новые члены при своей талантливости и свежести, как оказалось, не могли возродить Товарищество. Их работы тонули в большой массе картин старых передвижников, утерявших живопись, пользовавшихся ею как средством для выражения своих уже пережитых лозунгов. А новых лозунгов для молодого поколения жизнь пока не давала.
Все же передвижническая молодежь давала искренне и умело все, что могла. В ее рядах уже были такие мастера, как Жуковский, Моравов, Келин, Бялыницкий-Бируля, Радимов, Юрий Репин, Фешин.
Сам Дубовской переживал в живописи какой-то кризис. После поездки в Бретань, где он написал золотистые облака, с его зрением что-то случилось: в его живописи появились однообразные желтые тона, и долго художник не мог избавиться от условности в колорите. Только работая на Кавказе, он тонами моря и синих гор сбросил со своей палитры окутавшую ее краску.
После ухода из Академии Куинджи Дубовскому было предложено занять место профессора по пейзажу, но он, несмотря на все выгоды этого положения, отказался. Профессором был тогда назначен А. А. Киселев.
Хотя Дубовской и полагал, что и пейзажем можно зажигать сердца людей, направлять их к добру, но все же ему хотелось овладеть более могучим средством в этом направлении, и он брался за жанр.
Это была его слабость, пусть похвальная, но все же слабость, и в ней он сам чистосердечно сознавался. Он писал этюды живых людей и целые жанровые картины. Самая значительная по содержанию и выражению была его картина «Землекопы». В летнюю жару, в пыли, обливаясь потом, землекопы проводят дорогу. Один – тощий, болезненный – выбился из сил под тяжестью работы.
Л. Н. Толстой, увидав эту картину на выставке, сказал: «Хорошая вещь. Вот такими картинами надо будить совесть у людей».
Толстой, требовавший от картины содержания, известной направленности к добру, и не придававший значения технике, ничего другого не мог сказать об этой картине, отвечавшей его требованиям. Но беда была в том, что в своих жанровых картинах Дубовской выступал с проповедью без вооружения со стороны формы и техники. Рисунка в его жанрах те было, да и не могло быть, так как Дубовской не изучал человека; не было в живописи яркости. Колорит был совершенно неопределенный, общий, краски ложились неряшливо, рвано, без всякой техники.