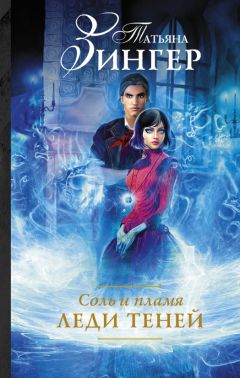Дмитрий Урнов - На благо лошадей. Очерки иппические
Вот Асигрит Иваныч прочитал рассказ Куприна «Рыжие, вороные, серые, гнедые», записанный со слов наездника Черкасова, и мысль его тут же уносится далеко, охватывая и фигуру наездника, и быт того времени: «Николай Кузьмич Черкасов давно уехал в Париж, и наши наездники, выступавшие во Франции, с ним встречались: сильно постарел и на призы больше не ездит. Что касается его наезднических способностей, то ездил он хорошо. Служил у Бенкендорфа и больше выступал в Петербурге, приезжал и в Москву. У него был камзол голубой и белый картуз. Со старта обычно не вел – берег для финиша. Помню, все говорил: «Лучше проиграю, а не поведу». В езде у него находилась очень хорошая кобыла Тропа, завода Телегина, краткое происхождение которой приведу ниже. А покойный Н. В. Телегин был одним из самых талантливых русских коннозаводчиков. Скончался он в 1917 году в период упадка нашего дела. На тот год Московским Беговым Обществом было назначено к розыгрышу много очень крупных, так называемых «подписных» призов: любой заводчик записывал на них свой молодняк заранее, задолго до выступления. В семнадцатом году Общество осталось без средств. В связи с этим пришлось поднять вопрос об отмене подписных призов, а с отменой их рушились все надежды замечательного коннозаводчика. Известно, что представляли собой телегинские лошади! Его производитель Барон-Роджерс давал выдающийся приплод, в особенности от голицынских маток. К началу упадка бегового дела у Телегина в заводе собралось много способного молодняка, и никому из коннозаводчиков не было так обидно лишиться возможности записать его на подписные призы. На собрании Общества Н. В. горячо отстаивал необходимость сохранения подписных призов, от волнения ему сделалось нехорошо, и на другой день его не стало».
А что за энтузиаст был Тюляев, скажет такой случай. Однажды в ответ на мою очередную заметку пришло от него письмо. В конверте лежало десять рублей: читал и, если нравилось, присылал десятку – из пенсии. На этот раз одобрение выражалось не только деньгами. Тюляев сообщал, что, прочитавши мой текст, он от восторга лишился чувств. Не слогом моим старик оказался сражен. Слог как раз подвергся уничтожающей критике со стороны моего отца, профессора редактирования, и я, защищаясь, показал ему тюляевское письмо, но это не помогло, отец сказал: «Не понимаю, что тут особенного».
Из рук отца получил я шедевры иппической литературы, он сводил впервые меня на ипподром, а мать, художница, оформляя на ВДНХ Павильон Садоводства, рассказывала, какие рядом с ними в Павильоне Коневодства лошади, и сама же брала меня с собой их посмотреть. Однако опасаясь падений, увечий, дурных влияний, родители старались вытравить у меня то самое пристрастие к лошадям, которое они же и поддерживали. Последователен в поддержке был только дядя-физик. Авторитет в своей области, электронной микроскопии, он, обладая прекрасным тенором и хорошим чувством юмора, всю жизнь боролся с искушением бросить физику и пойти на оперную сцену или – в журнал «Крокодил». Трудность выбора осложнялась тем, что он внес существенный вклад в науку и создал первый у нас в стране электронный микроскоп. Моим родителям он говорил: «Оставьте его в покое с его лошадьми! Придет время, он станет о них писать», и настрочил куплеты с рефреном: «Мити нет дома – пасет лошадей».
К иппическим писаниям родители подходили как читатели-неспециалисты и некоторых оттенков не различали. Что ж так поразило Тюляева? Секунды Грейхаунда! И не на всю дистанцию – рекорды «серого феномена», все до одного, Асигрит Иванович перечислит, даже если его разбудить ночью. Он все до мелочей знал и без меня, но заметка была рефератом только что вышедшей в Америке книги, там оказались обнародованы некоторые даже знатокам неизвестные подробности, и вот, когда он прочитал (так говорилось в тюляевском письме), как на прикидке Грейхаунд сделал последнюю четверть в двадцать семь секунд, стало быть, с резвостью, какой никогда, с тех пор как раздается стук копыт о беговую дорожку, не показывал никто ни до, ни после, тут у него перед очами души возникла эта невероятная картина и… и… Тюляев писал, что́ он, читая, пережил: кому случалось видеть классный финиш, тот знает, как подкатывает к горлу комок и перехватывает дыханье.
Так вот, сам Тюляев подарил мне книгу «Беседы на конюшне». Это реликвия. Книга переходила от наездника к наезднику, причем каждый ставил на ней свое имя. Первым расписался Кейтон, последним сам Асигрит Иванович. Книга стала принадлежать мне, но я, конечно, не мог продолжить исторический список. Без своей подписи передал я книгу в «Содружество рысистого коневодства России». Пусть появятся в списке достойные имена мастеров. А я постараюсь наследовать дух спортсменства, который в «Беседах на конюшне» содержится.
Что писал я о лошадях, то, оказывая мне честь, подвергали беспощадно-благожелательной критике специалисты, такие, как В. О. Липпинг и Ю. М. Оленев. По мере своих сил следуя шекспировскому завету «Не печалить знатока», замеченные ими ошибки исправлял, но замечания их подчас были чересчур специальны, исправишь – озадачишь читателя, для которого я писал: неспециалист просто не поймет, о чем идёт речь. Насколько Владимир Оскарович и Юрий Михайлович были требовательны, когда дело касалось лошадей, можно судить, если учесть, что не давали они спуску ни Шекспиру, ни Толстому.
Однажды обескураженный оленевским разгромом, я пробовал защищаться: «Ведь даже в у Куприна в рассказе…» «Рассказ плохой!» – парировал Оленев. Ах, рассказ «Изумруд» плохой? Тут моя авторская совесть и успокоилась.
Волшебный мир
«…Устав наездника читал».
«Мир галопа – волшебный мир!» – внушал Тюляев. Он говорил: «Приведу пример, чтобы показать, каково это!» Ипподром, утренняя проездка, трава блестит, и по сверкающему кругу во всех направлениях чеканно отстукивают копыта – галопом, рысью, шагом – на разных аллюрах, но, соблюдая некий общий ритм, движутся рыжие, гнедые, вороные. Таков был рассказ, который кончался слезами. Не в силах был сдержать слез Асигрит Иванович тогда, на скаковой дорожке, наблюдая за посадкой жокеев, за дрожанием хлыста, за кончиком хлыста, за движением каждой лошади, «выражением лица лошади». Слезы звучали в его голосе всякий раз, когда хотел он убедить в одном: «Мир галопа – волшебный мир!»
Слезы старого тренера поблескивают мне с тех пор, когда еду я по росе или после дождя и лошадь, обмывая копыта, чиркает по влажной траве. И всегда стучит мысль: «Волшебный мир! Необычайные люди возле лошадей».
Всякий настоящий спортсмен – энтузиаст своего спорта. И все-таки энтузиазм конников, их привязанность к своему делу совершенно особые. Конник наживо и намертво соединен с конем. Можно отложить на время мяч, снять боксерские перчатки, велосипед не просит ни пищи, ни воды. Лошадь же, как ребенок, требует непрерывного ухода. В самом деле, словно дитя у матери, лошадь занимает мысли наездника или жокея, особенно классная лошадь, гордость и надежда всей конюшни – «крэк», что буквально значит «хлопок хлыста» от английского crack: только взмахнуть хлыстом достаточно, чтобы классный скакун ответил на посыл. Сигнал, подаваемый лошади, по смыслу слова, уравнялся с лошадью: крэк значит класс.