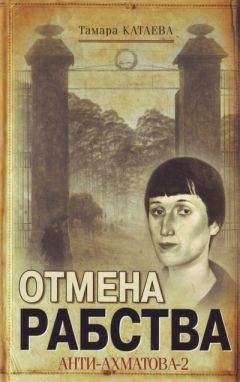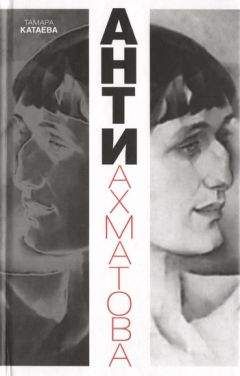Тамара Катаева - Пушкин: Ревность
Это были дети, рожденные матерями.
Таких детей себе Пушкин не хотел — чтобы биться за них, отвоевывать у общества, он был светлым, Пушкин, он не хотел глубокой, выстраданной семьи, отнятой, ничьей — и он должен всем весом своим ложиться на чашу весов, чтобы назвать своею свою семью. Собственно, идти против того, как вещи устроились сами и как их Господь соединил.
Нет, он хотел другого.
МАСКА: Зачем Пушкин женился на красавице?
От слабости.
Что-то он чувствовал себя уже не в силах поднять одному, хотел усилить свои позиции. Буду я, и будет красавица, которой я заслуживаю. Может, сначала хотел награды только для себя, как за свои деньги заказывают самое вкусное блюдо, зачем нам простая каша? Просто хотел себя побаловать, взял писаную красавицу, молоденькую, с запасом. Если редко видеть, да понравится друзьям, да подарит детей, да будет слушаться — для начала, до вмешательства рока — кто знает, где и кого он подстерегает, опасаться надо, Александр Сергеевич был очень опаслив, и в зайца, и в кошку, и в белую лошадь верил очень.
МАСКА: Бог выпускает в мир Богоподобного, подобного себе. Тот легок, как божественное дыхание, могуч, как не нуждающийся в доказательстве своей силы, прекрасен, как то, чем для образца Создатель украсил землю.
И ужасные, несовершенные, слабые и злые люди, смертные люди вокруг — наталкиваются на него, не имеют догадки взглянуть наверх, опознать, тыркают его, как себе равного. Ранят, терзают, возмущаются тем, что он не так реагирует, даже входят в азарт мучительства, впадают в восторг, заметив, что и он утрачивает сколько-то божественного спокойствия и великодушия и страдает от них и даже — о победа! — хочет отомстить.
Конечно, Господь призывает Его к себе назад рано.
Нас даже Богочеловеком не всех проняло, что нам Богоподобные!
ДАНТЕС: Он сам вызвался учить французский язык, я его не неволил — для чего он претендует теперь, чтобы я чтил в нем гений русской словесности? Он хотел обращаться ко мне, к носителю французского языка, и, захоти, я мог поставить его на место уже в этом. Да, он знал его как родной — но родство это прерывалось с отъездом очередной бонны. Мой язык — не родной мне, он — живущий во мне, я каждый день наполняюсь тем, что его жизнедеятельность во мне мне приносит. Я могу щелкнуть Пушкина по носу ежесекундно, потому что мой французский родит мне такого озорного детеныша, который станет со мною заодно и будет служить мне, как амуры. Они, лукавые, веселые, непредвзятые, следят за любым зазевавшимся, и себе, и публике на потеху поражают его стрелою. Купидончики моего французского языка в любой момент могли поразить Пушкина, полного основательным грузом французской словесности и показной образованности его бонн. Захоти я только. Но, до поры не поняв, что мне шлют вызов, я весь был — вежливость и осмотрительность гостя.
Еще — я не просил его тягаться со мной, кавалергардом. Я не знал, что я, кавалергард — столп светской жестокости и внешнего блеска, а он — гений, пронзительность, тонкость глубокого, необычного взгляда на мир и на нас с вами.
Почему тогда он вышел сражаться со мною?
Он вышел, бряцая медалькой государственного служащего и обдергивая полы титулярсоветнического сюртучка.
Когда и как я должен был всю эту премудрость распознать?
Он-то, Пушкин, все это различие понимал, он бравировал, он закрывал и от меня, и от моих друзей, и от своих свою сущность.
Он не позволил бы сделать скидку на то, что он — народное достояние, он гордился званием частного человека, он истосковался по нему, по его правам — и его обязанностям. Его опасностям.
Я — Дантес, офицер, и каждый может стрелять мне в грудь.
А Пушкин, говорят, — Пушкин, на него нельзя поднять пистолета.
И он пишет моему отцу — Геккерну, положим, но при его, сочинительском, воображении — он разве не может догадаться, что и Геккерн чем-то уязвим, что и ему я дорог — и даже, может, больше, чем родные сыновья родным отцам — любовью, и жалостью, и страстью более болезненной, уязвимой, беззащитной — так нет. Он пишет: «когда ваш так называемый…», «гнусный…», «бастард», «болен сифилисом…».
Меня взяли в эту страну служить престолу, царю и отечеству — мне поставили в личную обязанность наблюдать, чтобы никто не позволял себе обо мне такие слова писать.
И жена его не должна была разъезжать по подружкам, где подкарауливают ее влюбленные гвардейцы. Таковую жену должно запирать, еще лучше — везти ее в деревню, рожать там еще больше.
Кто такая Идалия Полетика, чтобы ее имя не вычеркнуть из списка адресов, которые влюбленная жена не может посещать одна? Из полусвета вышедшая и усилий не приложившая, чтобы туда не скатиться. Он, душевед, смятение жены должен был видеть, помочь ей — хотя бы не позволять разъезжать, куда ее фантазия влечет. Она хоть и замужняя дама, да довольно молода, должна получать наставление одной дом не покидать.
Он хотел мною со светом счеты свести.
У него любимый герой захотел себе побольше соблазнительной чести, когда б скандал, принесенный им позор был бы в обществе всеми замечен. Пушкин тоже меня выбрал за то, я был заметен. Я был иностранцем. Сыном посланника — это не заставило его по-провинциальному не отмахнуться от меня — мол, зулусы завсегда чужую жену за полагающийся себе по гостеприимству подарок считают — знать, он действительно метил во всемирные персонажи.
Напрасно — я переживу его на пятьдесят лет, стану французским сенатором, а мировой славы своей жертве не прибавлю; потомство его в основном будет жить за границею Российской империи — а в мире он не станет известен; слава ни Мольера, ни Байрона, ни Гете с его равняться не станет.
ИДАЛИЯ ПОЛЕТИКА: Что мы получим, если будем тщательно оберегать наших гениев? Даже, положим, в таком бесспорном случае, как Пушкин. Всем известно, что он — центр нашего века, стержень, вокруг которого крутится все, и никто и не собирается сопротивляться этому пушкиноцентричному круговороту. Мы имеем личную вражду, но с меня требуют отчета.
Когда мне будет девяносто лет и меня будет ждать могила с маленьким, коротеньким, разве что в рамках приличий памятничком, памятник — Памятник с большой буквы, украшение славного города Одессы, доминанту в нем на века, знак поэтического, высококультурного, метафизического отличия для нее — будут устанавливать в этом городе, где я буду жить. Я, забыв про петербургские светские гонки, буду считать его своим, своим успокоением — только вот к какому-то ужасному, фатальному совпадению тоже связанным с именем вездесущего кривляки. Здесь они, очень по-провинциальному — в портовом городе могли бы быть и полегкомысленней — от гимназиста до куплетиста чтут имя Пушкина и гордятся недолгими месяцами его бездельного, ловеласного, плодовитого — как был он плодовит почти везде — и часто с большей привязкой к местности пребывания здесь. И только я одна — Я, к которой могли бы приводить маленьких девочек под благословенье, к которой подростки могли бы подбрасывать на крыльцо тетрадки со стихами — здесь какое-то ужасно обильное на стихотворцев и прочих литераторов — к чему бы это? — место, — я одна пойду к его памятнику — все знают для чего: чтобы плюнуть на него. Меня почти понесут — он мог бы быть в таком же виде, нас могли бы снести вместе, я бы плюнула и на него, он, наверное, к старости стал совсем бы ненормальным и уж несдержанным совершенно — он бы и замахнулся тростью.