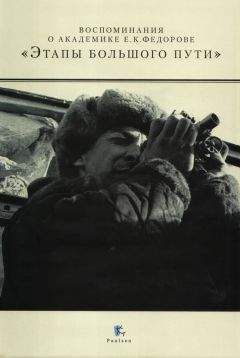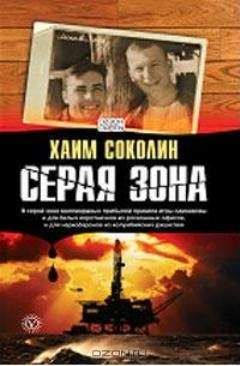Александр Игнатенко - Ибн-Хальдун
Слуга раскрыл коробку перед Ибн-Хальдуном. Он взял кусочек халвы и положил его в рот. (Заныл больной зуб, но Ибн-Хальдун не скривился: еще подумают, что сласти отравлены.) Слуга обнес всех присутствующих и поставил коробку перед Тамерланом. Тот, помедлив и убедившись, что никто не корчится в предсмертных судорогах, с удовольствием засунул в рот большой кусок халвы.
Все молчали, пережевывая халву. В шатер просачивался запах гари...
— Есть ли у тебя осел? — вдруг спросил Тамерлан, обращаясь к Ибн-Хальдуну.
Спроси его Тамерлан о Бураке, чудесном коне, что перенес Мухаммада в мгновение ока из осиянной божьим светом Медины в Аврушалим — Дом святости, где встретился Пророк со своими предтечами — Мусой и Исой[3], сыном Мариам,— спроси его Тамерлан о Бураке, и то бы меньше удивился Ибн-Хальдун. Переводчик, что ли, напутал? Но тот сидит, услужливо склонившись к Тамерлану, и взор его спокоен. Не дольше, чем хватило Бураку на путь от осиянной Медины до священного Аврушалима, думал Ибн-Хальдун и ответил:
— Есть у меня осел, Родившийся под Счастливой Звездой, если будет мне дозволено считать равноценными осла и ослицу, ибо есть у меня ослица.
— Продай ее мне,— молвил Тамерлан.
— Может ли быть выше награда, чем твое желание, обращенное ко мне, твоему ничтожному слуге. Возьми ее даром и позволь мне быть благодарным тебе, о Тимур, Родившийся под Счастливой Звездой!
Их разговор был прерван появлением Шах-Малика, который что-то сказал Тамерлану на ухо. Тот тяжело встал и вышел из шатра. За ним вышли все присутствующие.
Дамаск был охвачен огнем. Железный Тимур не сдержал своего обещания. Прищурившись, он долго смотрел на пылающий город.
— Иди ко мне в орду,— сказал он вдруг, обратившись к Ибн-Хальдуну.
— Нижайше благодарю тебя, о Родившийся под Счастливой Звездой.
Встреча третья
Ночь — пора горьких мыслей. Или — мыслей, облекающихся в призрачную плоть?
Ибн-Хальдун не один. В темном углу его комнаты, куда не достигает вздрагивающий свет масляного светильника, сидит Тень. Ибн-Хальдун вглядывается и постепенно различает детали: вот заискрилось, засияло золото парчового халата, блеснули хитрые глазки, в злом оскале высветились зубы. Да. Это он, Тамерлан. И здесь он не дает покоя.
— Что тебе нужно от меня, злодей? — восклицает Ибн-Хальдун. Но Тень молчит.
— Я вижу, ты ждешь от меня чего-то. Я все тебе отдал, что мог, я, бедный ученый, чье имущество — бумага и калам. Даже ослицу ты у меня выклянчил. И свободу мою хочешь отнять. Не соглашусь я тебе служить — ты меня убьешь. Я льстил тебе. Я боялся тебя и боюсь, а лесть — это сила слабых и оружие беззащитных. Я тебя величал «О Родившийся под Счастливой Звездой!» Твоя, что ли, в этом заслуга. И причем здесь звезда? Сила звезд — это сказки для глупых, тщеславных и жаждущих лести. Таких вот, как ты.
Ибн-Хальдун увлекается и забывает о Тени.
Нет дела до нас ни звездам, ни алому Марсу,
ни чистой Венере, что путь указует влюбленным в безлунные ночи.
Опутаны мы, как цепями, земными делами —
делами своими, делами чужими...
Упало зерно в борозду,
тучнеют стада на зеленых холмах,
меняла стирает монеты,
считая их в тысячный раз.
Вот пахарь склонился над плугом, а там
в бумаги зарылся писец утомленный,
а воин бряцает оружьем, пределы храня.
И все они связаны цепью:
одни без другого, как тело без членов.
И цены на рожь в Антиохии
большую силу имеют для жизни державы,
чем все констелляции, блеском покрывшие своды.
Движение круга гончарного более важно,
чем коловращение сфер...
Движение.
Круг.
И движенье по кругу...
Ибн-Хальдун замолкает на мгновение. Тень скалит зубы в темном углу.
Движение. Круг,— задумчиво повторяет он.— И движенье по кругу.
Лишь жизнь человека — летящая в бездну стрела.
И нет ей возврата: безумен стрелок и не видит он цели...
Ибн-Хальдун замолкает надолго, вспоминая о чем-то. О днях ли своей лихой молодости, когда летел он во главе конного отряда и трепетала у него за плечами белейшая куфийя... Или о прохладных сводах мечети в Бужи, где на страницах фолиантов змеилась вязь, подобно ручью в оазисе... Или о том, как на исходе ночи он вышел из крепости Банн-Саляма в пустыню, поставив последнюю точку в своей — он это знал — великой книге...
Немая Тень замахала руками, привлекая к себе внимание.
Теперь о тебе. Ты умрешь.
Есть у жизни предел. Наливается соком
трава, чтоб увянуть. И гроздь виноградная
полнится сахаром, чтоб умереть...
Надежда твоя на бессмертие — царство,
что тенью (да, тенью!) покрыло
народы и царства поменьше.
Могуче оно и широко раскинуло крылья. Не спорю.
Надежда твоя — это войско,
безжалостный меч и огонь.
Надежда твоя — это толпы рабов,
что строят бессмертье твое — монументы, мечети.
И тлен не затронет, ты думаешь, царства Тимура,
и будет оно возвышаться, бессмертье даря,
как лес монументов на теле округлом Земли?
Тень кивает. Ибн-Хальдун продолжает:
— Тебе я сказал в нашей первой беседе,
что тюрки — несметная сила. Что нет их сильнее.
Я правду сказал. Но не всю.
Ведь полная правда тиранам не люба.
Теперь же скажу тебе все. Ты запомни.
Движение, круг, и движенье по кругу.
Вершины достиг — и клонишься к упадку.
По кругу, по кругу другие встают.
Как круг тот гончарный —
один он, движенье едино.
Но разными сходят горшки,
а иные не сходят и вновь обращаются в глину.
Иной разобьется...
Есть царству предел. А предел этот — сила.
Не правда ли, странно?
Растет его сила и близится царство к зениту,
чтоб ринуться вниз, поломав свои крылья.
И гибнет оно, распадаясь на части.
И нет его славы...
Сбивают рабы имена с монументов
и даты побед со страницы стирают.
И нет уж тирана, и нет уж Тимура...
Сейчас ты в зените.
Но дальше и выше не двинешься.
Магриба ты не достигнешь.
Читай мою книжку о Магрибе. Там —
моя родина. Там — моя молодость. Там —
родники, что в оазисах плещут.
Там — мирные порты и Белого[4] моря прибой.
Но сила твоя на исходе, в зените,
и жадные руки твои увядают...
Надежда твоя на бессмертие — севу
подобна на скалах. Ты ужас посеял.
И кровь.
Да, было, что ты обещал не пролить
этой крови ни капли. Ты сдавшимся мир обещал.
И живьем закопал их — чтоб кровь не пролить.
Но кровь та безвинная пала на руки твои!
Тень испуганно осматривает свои руки, ничего там не находит и успокаивается, чтобы через мгновение снова беспокойно зашевелиться, так как Ибн-Хальдун продолжает: