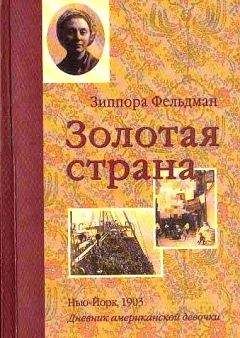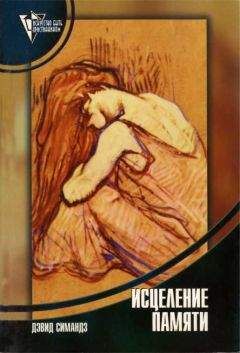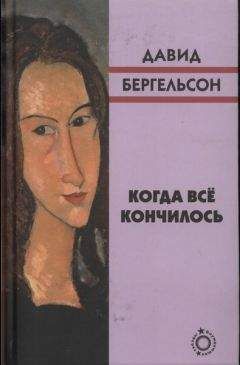Дэвид Роскис - Страна идиша
Как моя семья оказалась в Черновицах,[38] бывших тогда частью Румынии, — это отдельная история. Об этом мама тоже рассказывала мне за столом. Но сейчас не время для этой истории. Я ограничусь несколькими деталями: в Черновицах мой отец целыми днями был занят на фабрике резиновых изделий, а у мамы была гувернантка по имени Пеппи, ходившая за ее новорожденной дочерью, что оставляло маме массу свободного времени для переписки с Зайдманом. Кто-то посредничал между ними — может быть, ее племянница Сала? — в общем, кто-то, кто был обязан моей маме и потому ни за что бы ее не выдал. Десять, а потом и двадцать лет спустя, в Монреале, вдали от всех событий бурной молодости, в той же роли для мамы будет выступать ее маникюрша — назовем ее, скажем, Маргарет, поскольку она еще жива. А тогда, специально поехав в Вильно под предлогом визита к родственникам, моя мама встретилась с Зайдманом в кафе Рудницкого. Какое долгое путешествие ради коротенького свидания! Даже если учесть, что в 1937-м границ для этого приходилось пересекать куда меньше, чем сейчас.
Собственно, Борисом Зайдманом назвал его я. Имя Борис звучит вполне по-русски, вспомним хотя бы Бориса Годунова («Борис Годунов» был моей любимой пластинкой с трехлетнего возраста), а фамилия Зайдман вполне соответствует его ремеслу.[39] В моей истории он выступает под псевдонимом, поскольку его внучка Моника, ныне живущая в Ньютоне, Массачусетс, не хотела бы, чтобы все узнали эти подробности жизни ее деда. А вот мама наверняка бы порадовалась: вымышленное имя только добавляет Зайдману лоска. Нигде в нашем доме — двухэтажном доме на улице Паньюэло — не было у мамы фотографий Зайдмана: ни в драгоценных альбомах, пронумерованных от ι до 4, ни в надежном укрытии — в конверте, лежавшем внутри ее резной деревянной шкатулки. Отец Моники, по каким-то своим соображениям, отказался поделиться принадлежащими ему двумя фотографиями. На них изображен широкоплечий лысеющий мужчина со стрижкой под индейца апаш. Тогдашний европейский идеал мужской красоты, видимо, сильно отличался от нашего, если девицы, встретив такого мужчину на улице, всякий раз чувствовали сердечную дрожь.
Официальную версию маминого разрыва с Зайдманом перед свадьбой с моим отцом мы все хорошо знали. Однажды вечером, во время свидания, перед клубом гребли «Макаби» они увидели нищего. Мама, как всегда импульсивная, высыпала тому все свои деньги, а Зайдман не расщедрился и на злотый. Мама тут же решила: за такого скрягу она не должна и не станет выходить замуж.
Мы с Евой, восхищенно слушая за обедом мамины рассказы, воспринимали эту историю буквально и делали естественный вывод, что наш отец, не в пример Борису, был до крайности щедр — и тем заслужил ее любовь. Причин в этом сомневаться не было, поскольку каждую субботу я видел, как отец, сидя в своем кабинете, выписывает чеки всевозможным благотворительным организациям, просившим о помощи, — начиная с Любавичской ешивы[40] и заканчивая Канадским обществом по борьбе с раком. Если бы моим отцом был Зайдман, всем им пришлось бы искать вспомоществования в другом месте. Но муж моей сестры, домашний психоаналитик, считал, что маму напугала вовсе не прижимистость Зайдмана. Мама, говорил он, чувствовала себя в жизни слишком неуверенно, чтоб связать свою жизнь с мужчиной, которым она не могла управлять.
Но за какой же именно проступок Зайдман лишился маминой любви? Однажды, за минуту до того, как гудок школьного автобуса прервал мои раздумья, мама припомнила, что Зайдман ей как-то сказал: когда они поженятся и она будет беременна, ему придется прибегать к услугам проститутки. Так он раскрыл свои карты! Вообще-то ни в одном из ее рассказов он не обвинялся в неискренности. В конце концов, ведь именно Зайдман сообщил маме, что в нее влюблен Лейбале Роскис! Хотя, разумеется, студент в старом пиджаке с заплатанными локтями был не такой уж удачной партией — в то время как с Зайдманом, пусть он и скряга, она могла бы купаться в роскоши.
Но сейчас я спрашиваю себя: может быть, дело в том, что она так и не оправилась после смерти матери и поэтому ей больше всего нужен был мужчина, на которого она могла бы положиться? Если бы Зайдман «временно оставлял» ее каждую беременность, то, может быть, он мог бросить ее и еще когда-нибудь? Вдруг осознав невозможность на него положиться, мама — с той же импульсивностью, с какой она отдала нищему все деньги, которые были у нее при себе, — разорвала отношения с Зайдманом навсегда.
Мамина история, собранная по кусочкам в течение тысяч обедов, представляла собой полную противоположность судьбам ее сестер. Все они, одна за другой, связались с женатыми мужчинами, презрев суровое предупреждение моей бабушки Фрадл: «Дочь моя, у мужчины может быть миллион прекрасных качеств: привлекательная внешность, утонченность, богатство. Но смотри не прогляди один крошечный недостаток — может, он уже женат?» Мораль была ясна: не укради радость другой женщины, — но все дочери Фрадл не выдержали столкновения с реальностью. Маша же не могла оступиться, поскольку — как однажды она объяснила мне за обедом (мы пили компот): «Их бин а гезалбте, — я была избрана Богом, — их тор кит шлофн мит кейн ман, — и не могу спать с мужчиной вне брака». Короче говоря, мужчинам нет веры, ибо жизнь — это поле битвы, и женщинам вроде Фрадл Мац и ее младшей дочери Маши предстояло самим решать, где проходит линия фронта.
Вскоре после свидания в кафе Рудницкого Зайдман женился на Юдифь Кренской, женщине, которая была много старше мамы. Она была врачом и тоже принадлежала к русскоговорящей элите. У них родилась дочь, Фрида, которая, как и мы, росла, зная, что именно Маша была любовью всей жизни ее отца.
Сам Зайдман не оставлял надежд. Однажды он пригласил тетю Мину, мамину сводную сестру, в кафе и сказал ей: «Передай Маше, что я все еще люблю ее». В Виленском гетто он разыскал Надю, жену дяди Гриши, и, щедро заплатив ей за педикюр, при всех поинтересовался, не знает ли она Машин новый адрес в Канаде. Именно так он нашел ее после войны, и первое его письмо к ней, присланное из Швеции, начиналось словами: «Я Онегин, пишу моей Татьяне». (Если я когда-нибудь выучу русский, то прочту это письмо в первую очередь.)
Из маминых братьев и сестер в живых остался лишь наш дядя Александр, который бросил свой зубной кабинет и жену, старше его на шесть лет, и отправился на корабле в Америку, где жил инкогнито, чтоб не разводиться со своей женой. Четырнадцать лет спустя дядя Гриша дал ей халице, освободив ее от статуса агуне[41] (см. Втор., 25:7–9[42]), после чего она наконец-то вышла замуж, но вскоре умерла от рака. Под предлогом поездок к Александру в Нью-Йорк мама опять стала встречаться с Зайдманом, который тогда уже перебрался в Манхэттен. Как раз во время одной из таких поездок Ева уломала оставшегося дома отца рассказать собственную версию этой истории… Но на своем присутствии у смертного одра Зайдмана отец все же настоял.