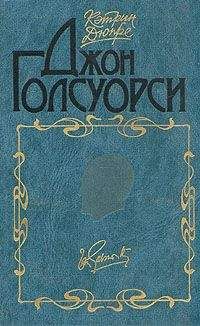Алексей Варламов - Андрей Платонов
Революция и Гражданская война в России совпали с тем возрастом в его жизни, когда человеческая душа наиболее отзывчива и восприимчива к происходящему в мире («Бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец», — размышлял он позднее в рассказе «Афродита»), она уже не совсем юна и наивна, но еще не успела огрубеть и покрыться коркой скепсиса и иронии, что отчасти с Платоновым с течением времени произойдет и что с самого начала революции было в той или иной степени присуще его более старшим современникам — Бунину, Куприну, Пришвину, Булгакову, Алексею Толстому, Зинаиде Гиппиус, Мережковскому, не увидевшим в случившемся в России в 1917 году никакой музыки, а только кровь, жестокость, бесправие и оттого однозначно воспринявшим русскую смуту как национальную трагедию и катастрофу, а если свое мнение о революции и переменившим, то позднее.
В судьбе Платонова революция сыграла иную, очень личную, животворящую и благотворную роль. «Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после нее уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться…» И в черновых вариантах «Чевенгура» осталось не менее лирическое: «А революция? — вспомнил я в тамбуре вагона. — Удар по ветрам, ливням, душевной тоске, по семейной беде, по голодному горю, убийству, одиночеству, землетрясению, — по всем злобам и печалям, чтобы прямо, прочно и уверенно стояло тонкое тело человека на земле, чтобы грустное сердце и синяя мысль стали самой драгоценной и страшной силой в природе…» И чуть дальше: «Я тогда стоял на распутьи — истории и личной жизни: мне сравнялось 19 лет и столько же было двадцатому веку, я родился ровесником своему столетию, растущему в такт возрасту человека — во мне молодость, острота личной судьбы, а в мире одновременно революция».
Нет сомнения, что Платонов сразу же, без колебаний и промедлений, с огромной доверчивостью и радостью, гораздо ближе и глубже, чем многие из его современников, в том числе и те, кто громогласно заявлял «моя революция!», принял красное дело и очень рано стал ему служить, о чем позднее сказал безо всякого пафоса: «Участие мое в октябрьской революции выражалось в том, что я работал как поэт и писатель в большевистской печати».
Глава вторая ГОРЕ ОТ УМА
Стихи Андрей Климентов начал писать, когда ему было десять-двенадцать лет и он стал «думать надо всем»[4]. Какими были эти думы, нам неведомо, но к облику их юного создателя, к психологическому портрету относятся строки одного из ранних рассказов: «Ночью душа вырастала в мальчике, и томились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке, в него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком.
Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он — рос, и все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром, — ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне; днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге».
Из этих раздумий и снов, из предощущения взрыва, катастрофы складывалась его жизнь, рано высказавшая себя в слове и почувствовавшая необходимость в том, чтобы это слово было услышано. В «Записных книжках» 1930-х годов Платонов отметил: «Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему шесть или семь лет от роду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других — так, чтобы его поняли — отчего ему стало скучно».
По сообщению литературоведа Льва Шубина, сославшегося на свидетельство Марии Александровны Платоновой, еще в 1914 или 1915 году Андрей Климентов посылал стихи в Петербург (Петроград) в какой-то из литературных журналов. «Стихи не опубликовали, но в письме редактора мальчику были сказаны теплые, ободряющие слова о том, что у него Богом данный талант и что ему необходимо продолжать писать».
Долгое время считалось, что первая публикация Платонова относится к лету 1918 года, однако не так давно в платоновском фонде в Институте мировой литературы был обнаружен рассказ «Сережка», опубликованный в неизвестном печатном источнике с дореволюционной орфографией, что позволяет датировать авторский дебют не позднее 1917 года. Не исключено, что будут найдены и другие произведения той или даже более ранней поры, но все же главным образом юный Платонов был связан с литературой советского периода.
Вполне советским (а если быть более точным, написанным в традиции революционной демократии XIX века — что-то вроде песенок Гриши Добросклонова из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо») было и увидевшее свет 1 июня 1918 года в воронежском журнале «Тени» стихотворение «Юноше-пролетарию»:
Где чувства мало — там мысли много.
Где мысли много — там чувства нет…
Идти лишь прямо — одна дорога.
Туда, где Правды сияет свет.
Иди же прямо, иди же смело,
Пока ты молод и полон сил,
Чтоб сердце волей стальной горело,
Чтоб, погибая, ты победил.
Впрочем, это не только не самое лучшее, но и не самое представительное из ранних платоновских стихов. Более характерно какое-нибудь другое из творений 1918 года — например, «Сумрак», в котором прямой идеологии гораздо меньше, зато куда больше подражания символизму:
Дальнее мерцание
Голубых огней,
Вздох или сияние
Грезящих полей…
Нежное дыхание,
Аромат цветов,
Мир, очарование,
Трепеты листов…
Тихое плескание
Позабытых слов,
Свет и угасание
Четких полуснов…
Или такое, очень личностное, исповедальное:
Мир родимый, я тебя не кину,
Не забуду тишины твоих дорог,
За тебя живое сердце выну,
Полюблю, чего любить не мог.
Снова льется теплый ливень песни
И опять я плачу от звезды,
Сам себе — еще я неизвестней,
Мне никто пути не осветил.
Платонов-поэт так и остался известен меньше, чем Платонов-прозаик или драматург. Частично собранная в первом и единственном поэтическом авторском сборнике «Голубая глубина» (1922), ранняя платоновская лирика при всей ее искренности, непосредственности, открытости и доверительности интонации поражает «неплатоновостью» — то есть гладкостью, умелостью, изначальной искушенностью, но при этом неизбежной вторичностью и подражательностью Кольцову ли, Никитину, Фету, Некрасову, Брюсову, Блоку… Про нее никак не скажешь словами Андрея Битова о прозе Платонова — «начал с нуля». В противовес грубому, необычному, первородному и первозданному платоновскому стилю, сразу проявившемуся в прозе, Платонов-поэт кажется отличником литературной учебы, добросовестно изучившим классическое русское стихосложение. Иногда это ученичество сменяется мастеровитостью, поразительной для юноши 19–20 лет, как, например, в стихотворении «Степь» с его подробной и точной картиной пространства, впоследствии ставшего местом действия в «Чевенгуре».