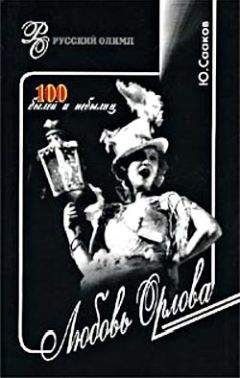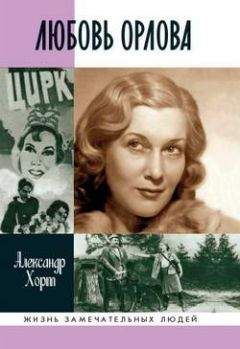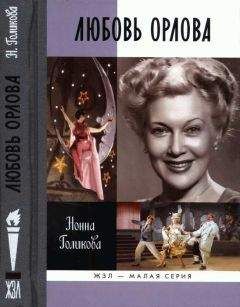Александр Архангельский - Александр I
Но был у высокомонаршего дара еще один подтекст.
Крохотные владетельные островки, как бы изъятые из исторического пространства, условно выведенные из подчинения правящему монарху, имелись у каждого из наследников российского престола. Начиная с потешного флота Петра Великого (кстати, по глади искусственного озера на Александровой даче тоже скользили небольшие суда) и кончая знаменитым Гатчиным, где играл в прусскую армию Павел Петрович, противопоставляя свой войсковой идеал реально существующему в России военному образцу.
Но Александрове не было репетиционным залом, малой сценой, на которой давали прогон будущего государственного действа. Александрово само было спектаклем «по мотивам» екатерининской сказки о царевиче Хлоре.
Спектакль отчасти напоминал модные в XVIII столетии заводные механические театры: позвякивает музыка, вращаются раскрашенные фигурки персонажей, и сколько раз заведешь игрушку, столько раз и будут они вращаться — в одном и том же ритме, по одной и той же траектории.
Главным героем этой механической пьесы стал Александр Павлович.
Гуляя по дорожкам регулярного сада, он обречен был повсюду замечать присутствие Екатерины. Дачный домик великого князя поставлен был на крутом берегу, а прямая аллея, обсаженная цветами, вела от дома к мосту, украшенному трофеями славных сражений, из которых Екатерина вышла победительницей. За мостом начиналось поле, в центре которого возвышался павильон с изображениями Богатств; за павильоном колосилась золотая нива, как бы оплетавшая простую пейзанскую хижину и естественным венком украшавшая каменную глыбу с надписью: «Храни златыя камни».
Ничего лишнего. Все просто, все понятно.
Аллея — жизненный путь будущего государя; он сможет перебраться через бурные воды истории, лишь продолжая военные успехи царственной бабки. Ключ к формуле власти — в надписи на глыбе (потому и глыба, что нерушима!). Это — постоянное напоминание о Наказе, данном Екатериной внукам.
Какой же итог ждет исполнившего Наказ?
Все ответы, как полагается, даны были в конце живой книги.
Пройдя мимо водного ключа, расположенного за храмом Цереры и посвященного имени великой княгини-матери Марии Феодоровны, царевич попадал в пещеру нимфы Эгерии — наставницы Нумы Помпилия. (О том, что она одновременно была его возлюбленной, как-то забывалось.) Здесь отрок задумывался о чудесных плодах послушания. И верные выводы, к которым он неизбежно приходил, подтверждались главным зрелищем — росписями семиколонного храма Розы без шипов, взнесенного на высокий холм. (Конец — делу венец.)
Здесь Петр Великий с купольной высоты взирал на блаженство России; Россия же, достойно окруженная символами богатства, промышленности, наук и художеств, опиралась на щит с изображением Екатерины.
Спустя четверть века в подобном саду, выполненном в екатерининском вкусе (еще раз: по проекту отца Андрея Сомборского), безмятежно расцветет тезка царя, Александр Пушкин.
…А там в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы Росской храм?
Не се ль Елизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельской сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчалися те времена златыя,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!
Самое слово «воспоминание» здесь лишено ретроспективного смысла. «Вспоминается» о том, чего пятнадцатилетний поэт не может помнить. Но мир «педагогической провинции», каковой ощущала бытие культура последней трети XVIII столетия (и какой изображает ее Пушкин), устроен так, что предметы сами помнят о себе, вспоминают себя; они не следы прошедшего, но сгустки непреходящего; они есть олицетворенное время, протекшее, но не иссякшее.
Но то будет — спустя четверть века. И то будет — в Царскосельском саду. Здесь же и сейчас речь об ином. О будущем, вытекающем из настоящего. Когда-нибудь Петр-основатель переместится еще выше, в миродержавные выси, его нынешнее место под куполом займет Екатерина, Россия же обопрется на щит (или меч?) соименника владыки мира Александра Македонского.
ТЕЛО, ДУША И ОДЕЖДА
Екатерина была талантливым режиссером.
Но со спектаклем, который она ставила в Гатчине, вышла осечка. Актер переиграл отведенную ему роль. Павлу дарили игрушку, чтобы тешился и не плакал; он превратил игрушку в действующую модель. Неудивительно: отец в отличие от сына обладал цельностью натуры, хотя и весьма своеобразной. И умел навязать жизни свою волю.
Гатчинские войска в момент их создания имели три рода оружия, в их составе были две команды по тридцать человек. К моменту интронизации Павла, к 1796 году, войска насчитывали две тысячи триста девяносто девять человек нижних чинов и состояли из четырех батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков: жандармского, драгунского, гусарского, казачьего, а также пешей и конной артиллерии при двенадцати орудиях. Всей этой оравой командовали девятнадцать штаб- и сто девять обер-офицеров. Так что современник, писавший о «толиких проказах», дозволенных наследнику ради того, чтобы тот не помышлял о правлении государством, весьма заблуждался. Были проказы — стали приказы.
Между екатерининских строк Павел писал свой манускрипт, свое начертание. Поступки его не бессистемны, а по-своему цельны какою-то страшной цельностью запоздалого средневековья. Принадлежавшее ему по праву рождения государство он воспринимал как таинственный рыцарский орден, наподобие мальтийского, где продумано все — от одежды до словоупотребления.[19] Бесполезно потешаться над гатчинской муштрой; ценой пота и крови солдат покупалась пламенно-сухая ясность государственного облика грядущей России, так непохожая на обольстительно-влажную, пышную красоту России екатерининской. На версальскую грациозность дворцовых парадов Павел отвечал четкостью гатчинских маршей, на французский образец — прусским, сухим и чистым, как мучная белизна обязательных пуклей и косичек. И форма, и устав, и фрунт на гатчинском плацу были как бы чеканной репликой в молчаливом споре между Екатериной и Павлом. Точнее — в недоконченном споре между государыней и убиенным Петром III Феодоровичем, полномочным представителем загробных интересов которого ощущал себя Павел Петрович. (Он был хорошим сыном. Об Александре Павловиче этого, увы, не скажешь.)