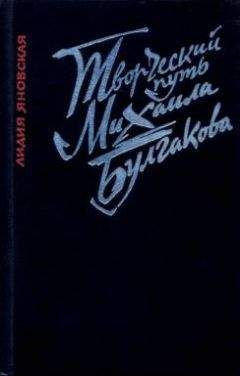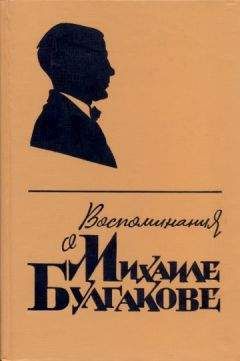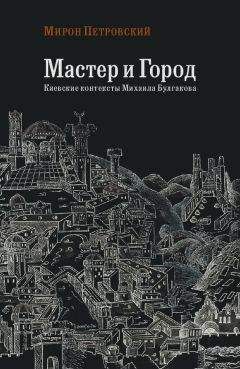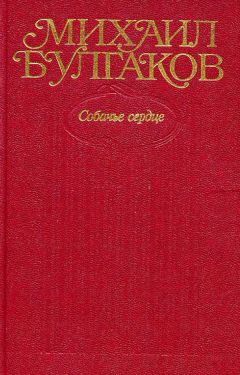Лидия Яновская - Записки о Михаиле Булгакове
Будет легче — напишу.
Обнимаю.
Ваша Елена Булгакова».
У нее был от природы счастливый характер. Характер, созданный для счастья. Она была не только энергична, но прекрасна и не любила показывать свой возраст, свою слабость или принимать гостей, болея.
Сколько я помню, из «не самых близких» в дни ее болезни в последние годы жизни у нее бывал Константин Симонов. История их отношений, закончившаяся самой нежной дружбой, была весьма своеобразной, и поскольку эта история никогда не освещалась в печати, перескажу ее в нескольких словах.
Когда-то во время войны, в 1943-м, в Ташкенте, к ней, в ее бедную «балахану» (ту самую, где потом поселилась Анна Ахматова), Владимир Луговской привел однажды Константина Симонова. Это был подарок Луговского: молодой Симонов, бесстрашный и знаменитый, в военной форме, не условной, а настоящей, только что с фронта...
Елена Сергеевна была уверена, что видит его впервые, но он, оказалось, помнил ее: он видел ее в одном московском доме, в доме военных, может быть, это было еще в пору ее брака с Е. А. Шиловским, а может быть, и позже, поскольку дружбу с окружением Шиловского она сохранила навсегда...
Потом на многие годы К. М. Симонов стал для нее олицетворением того самого Союза писателей, который она так ненавидела. А еще позже, в 60-е, потрясенный открытием Михаила Булгакова, потрясенный романом «Мастер и Маргарита», он взял на себя председательство в Комиссии по литературному наследию писателя и как никто бесконечно много делал для восстановления этого имени в русской литературе.
Теперь Елена Сергеевна уповала на его могущество и все более верила ему. Писала мне (14 ноября 1965):
«Меня очень радует, что Симонову тоже так понравилась Ваша работа... Я ужасно радуюсь, что в его лице нашла такого защитника (не в смысле художественном — это не вызывает сомнений ни у кого) этого романа». (Речь идет о еще не опубликованном романе «Мастер и Маргарита».)
А в своем дневнике (23 июня 1967 года, уже после выхода романа) — еще парадоксальней и прямее: «Моя любовь к Симонову, безусловно, не меньше той ненависти, которую я к нему испытывала раньше, когда считала его главным препятствующим изданию Булгакова человеком. Меня просто умиляет то сердечное внимание и забота и настойчивость, которые он проявляет».
Он заезжал к ней, когда она болела, шутил, действовал на нее успокаивающе. Это доставляло ей удовольствие, потом, смеясь и ужасно похоже картавя, она повторяла его реплики, и в ее интонациях слышалось отражение его преклонения...
(Она не ошиблась в нем. Это он помог вскоре «выбить» разрешение на отправку за границу цензурных купюр из романа, и роман — впервые полностью — еще при ее жизни вышел за рубежом; он, уже после ее смерти, добился издания полного «Мастера» в России; да и «худлитовское» Собрание сочинений Булгакова, продлись хоть немного жизнь Константина Симонова, вышло бы не в начале 90-х, а лет на десять раньше: в последние годы своей жизни он усердно «проталкивал» эту идею.)
И еще из «чужих», из не самых близких, во время болезни Елены Сергеевны у нее нередко бывала я. Может быть, она просто жалела мое время: я приезжала издалека, из другого города. А может быть, я, тихо читая рукописи, не мешала ей...
Все, кто бывал у нее, помнят: она была великолепная рассказчица. Накрывала круглый стол в кухне — маленький, инкрустированный, изящный круглый стол, — тот, что когда-то в ее и Булгакова квартире стоял под зеркалом в прихожей... Ее легкие, суховатые от возраста, но все еще красивые белые руки (она не забывала следить за их красотой) разливали чай, кофе, подавали обед, и, нимало не затрудняясь этим действием и садясь напротив, она рассказывала о Булгакове... Ее можно было слушать часами — и ее слушали часами.
Это отразилось в ее письмах к Николаю Булгакову:
«Все люди, с которыми я встречаюсь, которые входят заново в мой дом, подпадают под обаяние его поразительного таланта, его необыкновенно мужественной человеческой сущности» (7 сентября 1962).
«Есть много, много друзей у него, друзей, бывающих у меня, с которыми у меня отношения все более и более крепнут на этой почве. Есть корреспонденты из других городов, мы переписываемся, а когда они приезжают в Москву, то бывают у меня ежедневно, изучая творчество Миши и слушая рассказы о нем...» (8 января 1963).
Я привела отрывки из этих двух писем, потому что в их зеркалах тихо прошла и моя тень. Это я впервые пришла к ней в августе 1962 года и отразилась в записи 7 сентября. И потом приезжала в Москву в декабре и, как она уверяет, бывала у нее ежедневно (точнее: почти ежедневно).
И конечно, я слушала ее. И слушала, и расспрашивала. Но и слушала и расспрашивала меньше, чем можно было бы. У меня была другая задача: я хотела услышать самого Михаила Булгакова, его голос, движение его мысли.
Я — читала... По целым дням сидела, уткнувшись в рукописи Булгакова, и расстраивалась, когда Елена Сергеевна звала обедать... Это был самый правильный путь: через некоторое время я действительно научилась его слышать...
Но так и запомнила разные точки ее квартиры — в зависимости от того, что и где читала.
Это была небольшая квартира на Суворовском бульваре в Москве, у Никитских ворот: две комнаты, нарядная прихожая и кухня. В первой комнате, у входа во вторую — массивный круглый стол с огромной, роскошной, помнившей Булгакова настольной лампой под абажуром. Здесь, на этом столе, в начале 60-х Елена Сергеевна раскладывала передо мной черновики пьесы «Кабала святош»...
Была такая идея в журнале «Вопросы литературы»: написать что-нибудь о «творческой лаборатории» Булгакова; не о «Мастере и Маргарите», не о «Театральном романе», не о «Белой гвардии» — эти романы еще не вышли в свет; о пьесе какой-нибудь... Мы с Еленой Сергеевной выбрали «Кабалу святош», тогда только что вышедшую под названием «Мольер»; ей очень нравилась получившаяся статья; в «Вопросах литературы» статья тоже вызвала одобрение, но в свет так и не вышла...
В глубине этой же комнаты, ближе к окну, — булгаковский письменный стол, старая зачехленная пишущая машинка на столе и карта мира над ним. Мне очень нравилась эта карта — не со знаками, а с картинками... За этот стол никогда не приглашали, хотя, по-моему, Елена Сергеевна иногда работала за ним.
И все-таки однажды — в течение двух дней, с утра до вечера — я сидела за этим столом: здесь я читала «Мастера и Маргариту»...
А во второй комнате — тахта, на которой она спала или лежала, когда болела. По-моему, та самая, на которой он умер. Над тахтой — большой портрет Михаила Булгакова в овальной, красного дерева раме. Рядом с тахтой — ее рабочий стол, и на столе телефон, чтобы она могла брать трубку не вставая с постели.