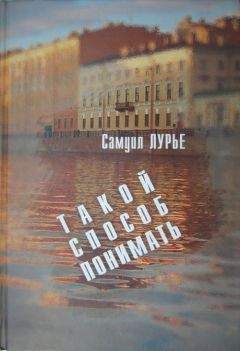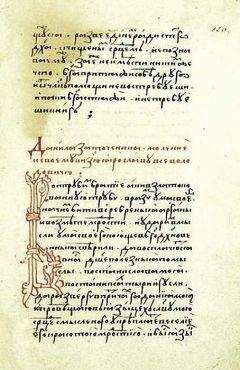Самуил Лурье - Литератор Писарев
«Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою лекцию словами Беранже „L’ignorance, c’est l’esclavage, le savoir, c’est la liberté“ (невежество — рабство, знание — свобода). Нас так и подкинуло кверху, эффект вышел оглушительный…»
Известно, как действуют на новичков вступительные лекции. В самом монотонном изложении самого заурядного преподавателя слышится обещание и тайна. На вас обрушивается целый мир новых слов, и каждое кажется путеводным. Горстке ошеломленных недорослей толкуют о вещах, самого существования которых они не подозревали. В плохо протопленных аудиториях порхают заманчивые названия: Краледворская рукопись, Моление Даниила Заточника, Русская Правда. А сколько имен: Страбон и Гизо, Лютер и Маколей, Востоков и Кирилл Туровский…
Все это было увлекательно и лестно. Все хотелось узнать самому, из первых рук, с самого начала и по порядку. Но стоило ухватиться за что-нибудь, за любое название — и в руке оказывался кончик бесконечно длинной нитки, которую никак всю не размотать. У той же Краледворской рукописи была такая сложная и загадочная история, что человеческой жизни могло недостать на ее изучение…
Это все потом, потом. А пока что глаза щипало от восторга. И учиться было не в пример легче, чем в гимназии. Времени свободного открылась пропасть. Обнаружилось, что день велик и Петербург огромен. Европейский город, пятьсот тысяч жителей. До чего затейливо был он иллюминован второго октября, как раз в день рождения Писарева, — по случаю въезда государя (Александр II возвращался из Москвы, где проходили коронационные торжества)! Как славно было после лекций плечо в плечо с Ординым и Мостовенко (вчерашними одноклассниками, а теперь однокурсниками) пройтись по Невскому, по солнечной стороне, распахнув плащи так, чтобы виднелись синие воротники мундиров.
Проголодавшись, заходили в кондитерскую, где шелестели дружно листаемые газеты, будто ветер в снастях корабля.
— «Сиамская армия, по общему мнению, обладает наилучшими боевыми слонами из всех стран Крайнего Востока», — читал вслух один завсегдатай другому.
А на Невском прибывал шум экипажей, говор толпы. Мимо витрин скользили нарядные дамы, франты в черных касторовых пальто. Один за другим зажигались фонари, и наступал вечер.
Пора было домой. Жил теперь Писарев не у тетушки Даниловой, а у дядюшки — генерала Роговского. Генерал был богат и со связями в кругах средней петербургской бюрократии. Предполагалось, что в доме у него Митя Писарев усвоит светский лоск и сделает нужные знакомства. Ну и, конечно, здесь он чувствовал себя гораздо независимей, чем под опекою тетушки Натальи Петровны. Генерал покровительствовал ему равнодушно и требовал одного: не опаздывать к обеду. В комнате у Мити стоял замечательный, тяжелый, орехового дерева стол, и можно было сколько угодно заниматься древнегреческим, читать «Парижские тайны» или возиться с переводными картинками.
В самом конце первого семестра профессор Сухомлинов на лекции по истории языка заговорил о том, что филолог должен внимательно следить за работой западных мыслителей.
— Мы не имеем права брать сведения из третьих рук, как это бывает слишком часто, — внушал Сухомлинов. И закончил так: — Вот здесь передо мной лежит несколько статей, написанных виднейшими немецкими учеными. Вам, господа, предстоит не только прочесть их, но и перевести.
Все его слушатели поместились на одной скамье в первом ряду. Писарев сидел посредине и к кафедре подошел последним. Ему досталась самая толстая брошюра: «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля». Имена эти Писарев знал только понаслышке, а фамилия автора брошюры — Штейнталь — и вовсе ничего ему не говорила. Но выбора не оставалось.
Впрочем, он принялся за эту работу с увлечением.
Он обожал Михаила Ивановича Сухомлинова. «Я увлекался в одно время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верою и любовью». На лекциях Сухомлинова, особенно когда он читал теорию языка, Писареву казалось, что за малопонятными словами мелькает особенный, стройный мир знаний, где все друг с другом связано и полно смысла; казалось, что филология — великое призвание, тайное братство умов, обладающее истиной и способное повернуть мир. И от причастности к этому призванию нарастал восторг: «Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки!» И вот наконец случай представился.
На святках Писарев засел за брошюру Штейнталя — и руки у него опустились. Сто сорок страниц немецкого философского текста!
«…Вообразите себе, что Штейнталь, который о высоких материях пишет так же удобопонятно, как и все прочие немцы, начинает сравнивать Гегеля с Гумбольдтом, и притом не факты, добытые ими, не результаты, к которым они пришли, а методы их мышления и исследования; и это сравнение продолжается на 140 страницах; и это надо было переводить мне — человеку, читавшему Маколея с трудом и Диккенса без особенного удовольствия… У меня на первых пяти строках закружилась голова…»
Можно было отказаться от задания и вернуть книжку Сухомлинову. Можно было попросить у него разъяснений, взять список дополнительной литературы, попробовать разобраться в теме. Наконец, стоило попытаться все же одолеть эту злосчастную брошюру, дочитать ее до конца.
Ничего этого Писарев делать не стал. Ему было страшно и скучно, и самолюбие страдало. Подавленный необъятностью предстоящей задачи, он прибегнул к испытанной гимназической уловке — переводить слово в слово, не вникая в смысл, «не читать, а прямо переводить, хотя бы связь между отдельными периодами и смысл целого остались для меня совершенно непонятными».
Таким способом удавалось изготовить не более двух страниц в день. Нелепая работа должна была отнять почти семестр. Этот расчет омрачил праздники.
Новый год Писарев встречал в дядюшкиной гостиной: легкий ужин, потом шампанское, конфекты. За столом толковали о ворах, которых в эту зиму появилось так много в Петербурге. Благодаря амнистии, объявленной в августе по случаю коронации императора Александра, свободу получили не только политические преступники — декабристы, петрашевцы, но и тысячи уголовных. Они наводнили обе столицы. Сколько сорвано дорогих шапок с проезжающих даже по Невскому проспекту, сколько часов вырвано из жилеток, серег прямо из ушей… Писарев рассказал историю, слышанную от Скабичевского, — как одного студента на прошлой неделе ткнули ножом в бок и отняли у него сто рублей только что полученного гонорара. И это на площади Мариинского театра, в восемь часов вечера!