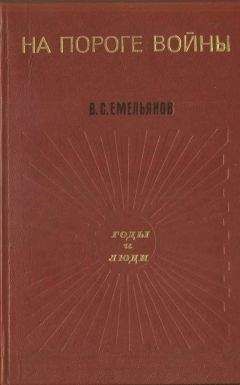Алексей Шахурин - Крылья победы
Все знания по русскому языку, арифметике, литературе и истории мы получили от нее. Она привила нам все хорошее, что может дать школа, и пробудила в нас, мальчишках и девчонках, то лучшее, что должно быть в человеке. Наказания мы получали только от батюшки - священника ближайшей церкви, преподававшего у нас "закон божий". В школу всегда бежали с радостью в любую погоду. Почти с самого начала я пристрастился к чтению. Много книг прочитал из нашей школьной библиотеки. Помимо "Капитанской дочки" Пушкина, "Князя Серебряного" А. Толстого, "Героя нашего времени" Лермонтова, почти все, написанное Гоголем, Некрасовым. Много читал Л. Толстого, вплоть до "Войны и мира". Правда, к произведениям Толстого, а также Гоголя, Пушкина и иных известных русских писателей я возвращался в разные периоды своей жизни, воспринимая их по-особому каждый раз. Если в 11- 12 лет, читая "Войну и мир", я пропускал длинные описания пейзажей, душевные переживания, так как меня захватывали события, в которых действовали герои, их разговоры, то потом, на третьем, четвертом десятке лет и позже я больше вникал в переживания героев, их душевный мир, а перечитывая эти книги в последние годы, хотел понять и настроение автора: почему он писал так, а не иначе, почему представил именно в таком виде героя того или иного произведения. Читал я в основном ночью, когда уже все спали, при керосиновой лампе. Просыпаясь, мать говорила: "Леша, уже поздно, ложись".
В то время деревня не имела ни газет, ни журналов, ни радио. Разговоры велись в основном о том, как прокормиться, что купить детям. Хорошо еще, когда такие родители, как наши, жили без ругани и пьянок. А то ведь брань не сходила с уст многих взрослых. Представьте теперь в этих условиях значение школы. Первое прочитанное стихотворение, первая книга! На тебя смотрит и тобой руководит человек большой нравственной чистоты и горячего сердца, проникнутый любовью к детям, своему труду.
Длинными зимними вечерами, сделав уроки, я писал письма отцу на фронт. Делалось это так: все садились за стол, мать и нас четверо. На столе керосиновая лампа, бумага и чернила. Мать диктует, я пишу, все слушают. Младший, Виктор, ему было в то время три года, засыпал первым. Потом укладывались другие. Мы оставались с матерью вдвоем. Она диктовала вполголоса, иногда вытирая слезы, невольно бежавшие из глаз, а я писал. Лампа освещала часть стола, все остальное тонуло в полумраке. Братья уже видели сны, а я перечитывал матери письмо отцу, и мы оба еще раз проверяли, обо всем ли ему написали.
В апреле 1916 года от отца пришло известие, что после ранения и госпиталя он находится в Москве, в Спасских казармах. Домой его не отпускали, но повидаться с ним можно было. К тому времени я чувствовал себя уже совсем взрослым - мне исполнилось двенадцать лет. Мать советовалась со мной по разным делам. Решили, что к отцу должен поехать я.
Спасские казармы помещались на Садовом кольце, недалеко от теперешнего института Склифосовского. Когда я вошел в ворота, то увидел солдат, очень похожих друг на друга, прямо-таки одинаковых. Как же найти отца? Всматривался в лица - все чужие. Вдруг заметил: идет ко мне солдат в лаптях, с густой окладистой бородой (а отец раньше бороды не носил, только усы - густые и пушистые), и этот солдат кричит мне:
- Леша, сынок!
Тут и я узнал родные глаза и лицо, побежал к отцу. Больше всего поразило меня, что он был в лаптях. Оказалось, в царской армии не хватало не только снарядов и оружия, но и обуви. Кто выбывал из строя, получал лапти.
Потом отец приехал домой в отпуск уже в ботинках с обмотками. Ему было в ту пору 34 года. Имел он два ранения: одно в голову, пуля прошла по касательной, содрав только кожу, и другое - разрывной пулей в плечо. Около плеча совсем небольшая отметка, зато на выходе, на спине, рана оказалась значительной. К счастью, пуля не задела жизненно важных мест. Вскоре отец стал работать без ограничений. Как квалифицированного рабочего его в начале 1917 года направили на завод.
Работать по найму я начал с тринадцати лет - в мае 1917 года поступил учеником в электротехническую контору И. Г. Заблудского, которая помещалась на Кузнецком мосту. На небольшой площади, откуда начинается Кузнецкий мост, стояла церковь, а в глубине, с левой стороны, был дом в два этажа с подвалом. Его и занимала эта контора с вывеской, тянувшейся метров на десять. Работая в городе, да еще в такое бурное время, я как бы перешел на следующий курс своих жизненных университетов. Хотя мой дооктябрьский производственный стаж составлял всего шесть месяцев, но эти месяцы значили для меня очень много. Контора выполняла заказы на предприятиях и в квартирах. Кроме того, оптом и в розницу торговала электротехническими товарами. Когда случались вызовы, я уходил с электромонтером как его ученик и помощник. Остальное время помогал продавцам.
Один из них, Константин Иванович Большаков, молодой, всегда хорошо одетый, располагавший к себе, по своим взглядам был убежденным большевиком. Другой, Александр Иванович Цыганков, лет пятидесяти, полный, с пышными скобелевскими усами и стрижкой бобриком, обычно в мундире без погон и лакированных сапогах, до поступления в контору служил в полиции. Он абсолютно ничего не делал, хотя и числился продавцом: ходил по залу, заложив руки за спину, или сидел в кресле и дремал. Думаю, что хозяин держал его, как говорится, на всякий случай, до "лучших" времен. В наступлении этих времен никто не сомневался. Главным занятием Цыганкова были ожесточенные политические споры с Большаковым.
Эти споры, невольным свидетелем которых я был, оказались для меня отличной школой. Власть еще находилась в руках Временного правительства. Было объявлено о созыве Учредительного собрания. Все партии развернули широкую агитационную кампанию, стремясь привлечь будущих избирателей. Для меня, выросшего в деревне, свержение самодержавия было событием, никак не укладывавшимся в голове. А тут Большаков называл свергнутого царя Николаем Кровавым, и, по его словам, выходило, что нужно передать власть в руки трудящихся, заводы и банки сделать собственностью государства, землю отдать крестьянам, прекратить войну, заключить долгожданный мир.
С разинутым ртом наблюдал я баталии в конторе. И вскоре стал горячим сторонником Большакова, потому что все, о чем он говорил - об угнетении народа, о его нужде и бесправии,- наша семья испытывала на себе. Я не мог, да и не пытался вступать в споры. Но если бы дошло до рукопашной, вряд ли удержался от участия в свалке, понятно, на чьей стороне.
Когда у монархиста не хватало аргументов, он начинал кричать:
- Скоро мы вас, большевиков, перевешаем на фонарных столбах.
Константин отвечал: