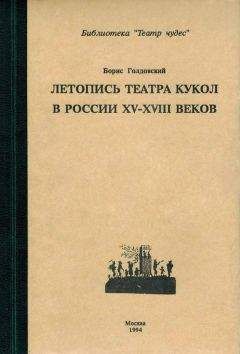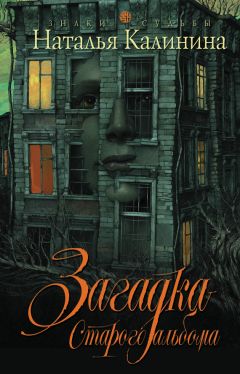Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
Что о нем сказать тогдашнем: он был странно ни на кого не похож: в длинном сюртуке вроде армяка, в сапогах, с длинными волосами. Все. что он говорил, было всегда неожиданно ново, всегда глубоко его собственное. Стихи его поражали тогда, как и сейчас, но тогда они были живым, непосредственным отражением тех потрясающих дней.
Впоследствии, уже после его смерти, я искала в букинистических магазинах журналы и издания начала века с его статьями. Есть у меня выпуски «Аполлона» с его статьями о Сарьяне, о Богаевском. есть сборничек переводов Верхарна с его предисловием. И тогда, уже в 30-е годы меня поразило, насколько живым, существенным, верным оказывалось все, что говорил и писал М.А. по сравнению с современными ему литературо- и искусствоведами.
Цри расставании М.С. и М.А. пригласили меня приехать к ним в Коктебель.
И вот в одну из весен конца 20-х годов я собралась к ним в отпуск.
Наверное у М.С. сохранилась, помнится, — как будто даже висит в столовой фотография, очень искусно сделанная кем-то из друзей. Он делал снимок за снимком с вышки, постепенно поворачиваясь от моря с профилем Макса к Тепсеню с торчавшим еще тогда в глубине лакколитом. — огромной скалой, впоследствии взорванной, потом к Седлу-горе, к Узун-Сырту. в сторону Янышар и Тапрак-каи и снова к морю. Склеенные снимки передают весь вид тогдашней Коктебельской долины, всю ее пустынность.
Прямо с автобуса меня повели в мастерскую — отряхнуть пыль от ног — таков был обычай, в точности описанный в «Доме Поэта». В дверях меня встретила Г.С.Киреевская и своим низким голосом прочитала: «Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Тайиах». А посреди мастерской стоял с протянутой рукой Макс.
Некоторые описывают Макса в каких-то туниках и веночках и прочей какой-то претенциозной мишуре. Ничего подобного не было. М.А. был естественным порождением и выражением всего окружающего его пейзажа. И каждая подробность его одежды была естественной необходимостью. Волосы были действительно чем-то перевязаны — то ли стебельками полыни, то ли какой-то шерстинкой, терявшихся в его уже тогда полуседых, полуржавых — как и вся коктебельская земля, — волосах. А как же было не подвязывать волос на коктебельских ветрах. Парусиновые штаны, перехваченные ниже колен, длинная парусиновая русская рубаха с пояском, — вот и все. На ногах сандалии. Был он очень большой и тучный, но вместе с тем необычайно легкий. Ходил как-то удивительно легко и пластично. И где бы я его ни встречала, — около ли дома, на пляже ли, на лесенке ли мастерской, — он всегда казался летящим на тебя сияющим солнечным шаром. Встретить его всегда было счастьем. Есть его портрет в профиль — очень грустный и задумчивый. Таким он наверное бывал, оставаясь один, погружаясь в свои «молитвы и медитации». Обращаясь же к людям, он всегда сиял улыбками.
Первым делом М.А. и М.С. и жившие тогда в доме друзья посвятили меня в основные правила общежития. И с той минуты я становилась хозяйкой Коктебеля. дома, Макса — всего. Вот эту свободу и господство Макс умел как-то легко и безусловно даровать каждому. Каждый был хозяин. Потом, после смерти М.А., когда я приезжала в Коктебель, и его дома были заняты чужими, совсем чужими людьми, я всегда чувствовала себя обкраденной, даже несмотря на присутствие М.С.
Самым трудным было говорить М.А. «ты». Но иначе Он отказывался разговаривать, и сам всем говорил «ты». Дня три я молчала, потом к великой радости Макса решилась и заговорила.
М.А. обладал удивительной способностью никогда ни о чем не спрашивать и все о нем понимать. Первый год я жила в «Нижнем Гинекее» — большой комнате на втором этаже в «доме Юнге» — том. что стоит в глубине позади основного дома, купленного Еленой Оттобальдовной у Юнге. В последующие годы М.А. понял, что я очень стремлюсь к уединению и всегда говорил мне: «Хочешь жить в отдельной комнате, приезжай пораньше», т. е. в июне. Так я и делала и поэтому никогда не бывала в разгар съезда гостей, обычно приурочивавшегося к дню Максовых именин.
Но и в июне гостей было столько, что они не умещались зараз в нижней столовой — длинной террасе. примерно под столовой М.С. Тогда на этой террасе стоял длинный стол. Все обедающие разделялись на две очереди. В первой были более старые и почтенные друзья М.А., во второй — молодежь. М.А. и М.С. обедали с первой очередью, а потом продолжали сидеть за столом и со второй очередью. Вы. наверное, знаете, что на лето к М.А. и М.С. приезжали из Феодосии три очень милые женщины, которые устраивали пансион, — зарабатывали они на этом ровно столько, чтобы перебиться с осени до следующей весны в Феодосии, кормили очень вкусно и очень дешево и были такими же гостями и друзьями дома, как мы все.
Мы — молодежь, всеми порами впитывавшие разговоры старших, часто в ожидании собственной очереди пристраивались где-нибудь на ступенечках или просто на земле вокруг террасы и слушали. А интереснейшие разговоры возникали всюду и ежеминутно, стоило только где-нибудь собраться нескольким человекам — за столом ли, на пляже ли или в очереди у «гробов» — так назывались две досчатые уборные.
Ко времени обеда откуда-то часто — по-видимому из Феодосии — появлялась мороженщица. М.А. был страшным сластеной, а сладкое при его тучности М.С.
позволяла ему есть лишь в ограниченных дозах. Нам же всем доставляло огромное удовольствие угощать М.А. И вот возникал бой. Мы отвоевывали у М.С. для М.А. право на сколько-то порций мороженого и распределяли между собой, кому угощать его.
По вечерам М.А. любил устраивать в мастерской, а то и на вышке, — чтения, чаще всего стихов. Поэтов было много. Много читал и сам М.А. (…) На первых же порах он спросил, привезла ли я поэмы М.И.Ц. Узнав, что их у меня с собой нет, уговорил меня срочно написать в Москву и просить их мне прислать. Пришлось мне ему повиноваться, а потом не помня себя от страха и стеснения, читать перед судьями, более строгими, чем на каких бы то ни было студийных экзаменах.
У М.А. была способность раскапывать в человеке самые лучшие и привлекательные его стороны и влюбляться в них. Он всегда казался мне влюбленным в каждого, с кем он встречался, — и только в этом смысле я понимаю слова «ибо только влюбленный имеет право на звание человека». Меня он по-моему любил за мое имя, за любовь к моей тезке. Однажды он получил письмо от дальней наследницы имени Дельвига — Леночки Дельвиг. Она сообщала ему о своем существовании и о желании приехать. Боже, как Макс радовался, что есть еще в России существо с этим именем, как он всем и каждому об этом сообщал: «А знаете, к нам скоро приедет Леночка Дельвиг, подумайте только — Дельвиг!»