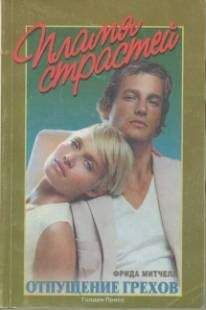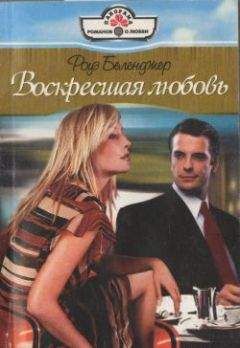Людо ван Экхаут - Это было в Дахау.
Привели, Каликста Миссоттена. За ним – моего дядю Иоса. И наконец, Жака Петерса. Все продолжали недоумевать, за что их арестовали. Мы разговаривали очень громко – в надежде, что нас подслушивают.
Под вечер дверь камеры отворилась.
– Мертенс, выходи.
Тогда мы еще не знали, что значит «выходи». Мы сидели рядом и напряженно ждали. Мы смотрели друг на друга и говорили глупости.
– Его допрашивают?
– Сейчас мы наверняка узнаем, что это простое недоразумение.
Ожидание длилось почти три часа. Три столетия. Только что мне казалось, будто в тюрьме невероятно тихо. Но теперь отовсюду неслись какие-то звуки, гортанные крики. И беспрерывный стук сапог.
– Они не могут ничего сделать с нами, если мы ни в чем не виноваты.
– Возможно, на нас донесли. У каждого ведь есть враги.
Наконец дверь отворилась, и в камеру втолкнули Луи Мертенса. Он был багрово-красным, выглядел усталым и растерянным.
– Конец, – сказал он и выругался по-фламандски.
Я кивнул на вентилятор, но он насмешливо покачал головой.
– Не имеет значения. Им и так все уже известно. Эти гады расстреляют нас.
– Что им известно? – спросил я напрямик.
– Когда я вошел, там был X.
Этот человек еще жив, поэтому я не называю его имени. Я не знаю, как и почему он оказался лицом к лицу с Луи Мертенсом. У него были жена и дети, а это может сломить волю человека. К тому же немцы допрашивали «с пристрастием».
Мертенс рассказал, что его сильно били, и объявил, что нет никакого смысла отрицать те факты, о которых немцы уже знают, – это вызовет только лишние мучения. Им все известно о том, как нам сбрасывали оружие, о двух американцах и канадце. Я внимательно следил за Мертенсом, когда он говорил все это. Мне казалось, что он не в себе. Однако он повторил все сначала еще раз.
– И ты признался? – испугался я.
– А что оставалось делать? Им все известно. И X. все уже подтвердил. Мне показали его письменное признание.
Каликст спросил:
– А они не сказали, что будет с нами?
Луи иронически засмеялся:
– Нет. Я их об этом не спросил. Оказался нелюбопытным. Если они меня расстреляют, то перед этим я еще пошлю их к…- Луи грубо выругался.
Меня вдруг бросило в холодный пот. Болезненно сжало желудок. В памяти пронеслись газетные сообщения о смертных приговорах тем, кто помогал летчикам союзников или прятал оружие. Все эти сообщения кончались одинаково: «Приговор приведен в исполнение». Я представил себе, как стою перед» карательным взводом. «Предпочитаешь пулю в спину?» – «Нет». – «Повязку на глаза?» – «Нет». Так полагалось вести себя двадцатидвухлетнему идеалисту. И все-таки я ужасно боялся.
– Нас расстреляют! – повторил Луи Мертенс.
– Перестань каркать! – разозлился я.
– Я не признаюсь ни в чем, – решил мой дядя. – Если ни в чем не признаваться, то нечего писать в протокол. А раз нечего писать в протокол, не за что наказывать.
Каликст недоумевал:
– Как они узнали о доставке оружия?
– Ума не приложу,- задумчиво сказал Луи Мертенс. – Они задают такие вопросы… Подожди немного, сам увидишь. Это тебе не дружеская беседа.
– А они спрашивали тебя о других? Об оставшихся на воле? – спросил я.
– Нет. Но им известен твой номер – АМ1.
– Проклятие! – воскликнул я.- Что же делать?
– Не знаю, приятель. Выкручивайся сам, Но глупо терпеть побои, когда им все уже известно.
– Ты подписал протокол допроса?
– Да. Показания записывались на машинке. Там указаны фамилии участников операции.
– Проклятие!
– А как бы ты поступил?
Не знаю. Видимо, так же, как и он. Луи очень сильный человек. Но он был прав – к чему лишние муки.
На допрос увели дядю Йоса. Снова томительное ожидание. Луи все еще не успокоился. Изредка тихо ругался.
Я спрашивал себя, почему первым вызвали не меня. Ведь им известен мой номер, а значит и моя роль в организации (АМ1 означало: Провинция Антверпен. Сектор Мол. Номер Г). Было бы логично допросить меня первым. Возможно, они надеялись сломить меня, показав другим, насколько они осведомлены. На моем счету числились не только доставка оружия, американцы и Боб Мастере. Я возглавлял организацию. Крепкую организацию. И нельзя было допустить, чтобы они добрались до нее. Мы оказывали помощь и другим летчикам. Готовили акты саботажа. Каликст тоже участвовал в них.
– Ты участвовал только в операции с оружием, – сказал я ему.- Больше ты ничего не делал.
Он понимающе кивнул.
– Завербовал тебя я, и, кроме меня, ты никого не знаешь, – продолжал я.
– Разумеется.
Через полтора часа вернулся мой дядя. Он был совершенно подавлен.
– Ну как? – спросил я.
– Били…
– Рассказывай.
– Я сказал им, что ни слова не понимаю по-немецки. Тогда длинный немец обозвал меня ослом. Я возразил, что это не я осел, а они. Меня стали бить. Били здорово. Канальи!
– Как тебя угораздило сказать такую глупость? – возмутился я.
– Так уж вышло, – признался он. – Конечно, глупо. Я прикинулся дураком. Скроил такую физиономию, будто не могу сосчитать до трех. Я подумал, что если они примут меня за полуидиота, мне ничего не сделают.
– Ну и что дальше? – спросил я.
– Они добивались, чтобы я назвал себя идиотом, били меня страшно. Тот длинный – настоящий зверь. Я сказал, что я не идиот, так как все идиоты смешные, а я совсем не смешной.
Мы рассмеялись. Он и в самом деле скорчил такую мину, что невозможно было удержаться от смеха.
– Так ты ни в чем и не признался? – спросил я.
Он глупо захихикал.
– Признался. После побоев мне задали «баню». Такую баню… Они сказали, что все знают, и если я не признаюсь, то меня ежедневно будут водить в баню. Им известно, когда летчики поселились у меня и когда уехали. Они знают все.
– И ты сказал им, куда я их переправил?
– Да.
Я замолчал. Он попался в ловушку. Они убедили его, что им все известно, и он поверил. Остальные почти не слушали нас. Я не мог упрекать их – у каждого свои заботы. Если человек после двадцатишестилетних раздумий о том, как он попал в тюрьму и концлагерь, прочтет эту книгу, то найдет в ней ответ. Я никогда не затрагивал этого вопроса. Но теперь, спустя четверть века, нет необходимости умалчивать об этом. Дело не в предательстве. Дело просто в неосторожности. Я тоже совершил ошибку: я не имел права сообщать дяде, куда увожу американцев. Но он так беспокоился за них! Ведь он выхаживал их, больных и слабых, несколько недель и хотел быть твердо уверенным, что их укроют в надежном месте.
После дяди увели Каликста. Через час вернулся и он. Его обвинили лишь в доставке оружия. Ему зачитали показания Луи Мертенса. Он спросил, расстреляют ли его.