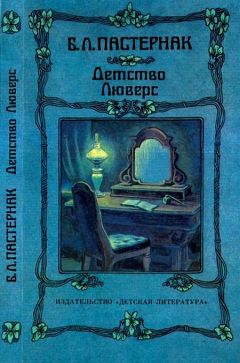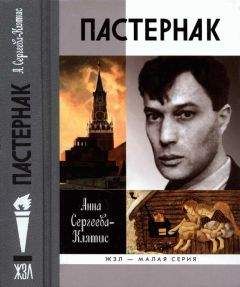Зинаида Пастернак - Воспоминания. Письма
На другой день я пошла по указанному адресу. Он посмотрел мою руку, слегка поморщился и сказал, что у меня слишком короткий пятый палец, потом показал свою маленькую руку и заметил: «У меня ведь тоже очень неудачная рука, но если умно и с головой приспособляться, то все выходит». Я сыграла ему два этюда Шопена и, кажется, первую часть сонаты Бетховена, какой – не помню. Он сказал, что я очень музыкальна и довольно ловко справляюсь с техникой, но постановка руки не совсем правильная (а откуда ей быть правильной, когда я в семнадцать лет начала заниматься), и он согласился давать мне уроки, пока он в Елисаветграде. Однако скоро ему надо уезжать в Тифлис, где он профессорствует, а ему туда не хочется, а хочется в Киев, куда он получил приглашение преподавать.
Как-то сразу же почувствовалось, что моей музыкой он не очень восхищен, а наружностью очень. Я это поняла, и это мне было неприятно. Но я подумала: «А мне все равно, у меня в душе другое, и это другое я ему не отдам ни за что на свете. Возьму от него как от музыканта все, что мне надо, и скажу до свидания». Прощаясь, он ласково посмотрел на меня, нежно поцеловал мне руку и назначил прийти через три дня.
Когда я вернулась домой, то увидела, что мама с тетей кроят мне белое платье к балу. Как-то мне все показалось лишним, хотя это был только второй бал в моей жизни (первый был после окончания института). Итак, уроки начались. Я ходила заниматься с ним как в церковь. Все новое и новое открывалось мне в музыке, и какие счастливые минуты переживала я на уроках! Это было сплошное откровение, и все это было как-то так сильно, что я все забывала и не волновалась, когда ему играла.
В августе был юнкерский бал. В день бала утром приехал Николай Милитинский. Он ехал из Петрограда к жене в Анапу и заехал предупредить, что увезет меня на обратном пути в Петроград. Его обокрали в дороге, и он появился в одном костюме. Я уговорила его пойти на бал вместе со мной. Мой дядя дал ему свой костюм и белье, и мы отправились. Бал был роскошный, я танцевала без конца и весело торговала на лотерее. Успех я имела большой, за мной ухаживали. Николай Милитинский мрачно сидел весь вечер и наблюдал за мной. Мне было его очень жаль. Когда я подходила к нему переброситься несколькими словами, он смотрел на меня сурово, и я чувствовала, что будет скандал. Во время одной фигуры в кадрили, когда кавалеры выбирают себе даму, ко мне кинулось слишком много танцоров, и я увидела, как он ушел из зала. Придя домой, я узнала, что он пошел ночевать в гостиницу. Утром он прислал мне с курьером записку, чтобы я немедленно пришла к нему.
Состоялось тяжелое объяснение. Он кричал, что, если я с ним не уеду, он все расскажет моей маме, что он виноват во многом, я пошла по дурному пути, и он должен уберечь меня от этого, женившись на мне. Как всегда, упреки не попадали в цель: главного я не могла сказать ему, я очень увлеклась Нейгаузом, а бал, юнкера и танцы – все это пустяки, не страшно. Я валялась у него в ногах, просила прощенья и обещала, что с ним уеду, когда он будет возвращаться из Анапы в Петроград. Постепенно он успокоился, и когда я его провожала через три часа на вокзале, все было хорошо. Но в тот момент, когда поезд тронулся, он втащил меня в вагон. Я вырвалась от него и (на небольшом ходу) соскочила.
Больше я его никогда не видела. Через год он заболел свирепствовавшим на юге сыпняком и умер. Когда я была замужем уже за вторым мужем – Пастернаком, меня отыскала его дочка Катя и привезла мне мою карточку с косичками и белым бантом. Она сказала, что папа, умирая, просил, чтобы эту карточку передали мне как самое дорогое, что у него есть.
Осенью Нейгауз уехал в Тифлис, и я продолжала занятия с его сестрой[5], тоже прекрасной пианисткой. Начались беспорядки. За год в Зиновьевске (так был переименован Елисаветград) было одиннадцать переворотов. Тут все теряется в моей памяти. Помню только, что мы с мамой переехали в снятую комнату и отделились от тети. Средняя сестра вышла замуж.
Летом 1918 года приехал из Тифлиса Нейгауз. Уроки возобновились. Но жизнь стала тревожная – власть менялась каждую неделю. Зиновьевск стоял близко от узловой станции Знаменка, и все банды – Махно, Зеленый, Маруська Никифорова, григорьевцы – заходили в город, расстреливали помещиков. Григорьевцы пробыли три дня и вырезали всех евреев, которые не успели спрятаться. Было лето, трупы было некому вывозить, и в городе стоял ужасный запах. Я никогда не видела такого зверства, и эти погромы оставили след на всю мою жизнь. Многие ученики Нейгаузов были евреи, они их прятали у себя в подвале, и их, к счастью, не нашли.
Осенью Нейгауз собирался в Киев и уговорил ехать туда же. Он обещал, что будет давать учеников и я смогу зарабатывать.
* * *Я решила ехать учиться в Киевскую консерваторию. Это был жизненно важный вопрос для меня, а средств на поездку не было. Тогда я продала свои драгоценности. Этих денег мне хватило бы всего месяца на полтора, но, как это свойственно молодости, я мало думала о будущем. Ехала я к тетке (маминой младшей сестре) и кровом, по крайней мере, была обеспечена.
Выезжала я при белых в начале 1919 года, зимой. У меня были знакомые среди военных, и они удобно устроили меня в поезде.
Я не знала, выедет ли в Киев Нейгауз, так как не слишком верила его обещаниям. В Дарнице я вышла на перрон погулять и вдруг увидела его. Он прислонился к столбу и спал стоя. Я обрадовалась и побежала к нему. Он рассказал, что всю ночь простоял в переполненной теплушке и не спал, я попросила его подождать и, вернувшись в свое комфортабельное купе, поговорила со своими спутниками. Они тотчас согласились помочь этому большому музыканту и, забрав все его вещи, привели его к нам.
Ехали три дня (а езды там несколько часов). Всю дорогу мы были вместе. В Киеве я остановилась у тети, а Нейгауз отправился на Лютеранскую к своему другу, музыковеду Петру Петровичу Сувчинскому[6]. Он стал часто у нас бывать.
Время было трудное. Власти беспрестанно менялись, не было воды, продуктов, обесценивались деньги, и мои сбережения быстро растаяли. Как-то тетя узнала, что если мы поедем в Миргород за пшеном, то заработаем и сможем какое-то время прожить. Положение было безвыходное, а мне хотелось закончить учебу в консерватории, и я, недолго думая, согласилась. Мы оделись похуже и поездом отправились в Миргород. Там мы дешево купили у крестьян по пять мешков пшена. Все шло удачно, и мы погрузили наши десять мешков на подводу. Но, приехав на станцию в Миргороде, мы вдруг обнаружили, что потеряли паспорта, и тетин, и мой. Что было делать? В то время белые чинили один еврейский погром за другим, а у нас обеих был южный тип. Отец у меня был русским, а мать полуитальянка (фамилия моего деда была Джиотти), и мы обе походили на евреек. За спекуляцию в сочетании с еврейской наружностью нас могли выбросить с поезда на полном ходу. Как часто бывает в опасные минуты жизни, напряжение и страх заставили работать смекалку. Мы пошли к начальнику станции и рассказали про свою беду. Можете вообразить, с каким недоверием отнесся он к рассказу двух бедно одетых и перемазанных в глине женщин. Он обозвал нас спекулянтками и обещал расстрелять… Тогда, как утопающий за соломинку, я ухватилась за спасительную мысль. Я попросила начальника станции позвонить в Зиновьевск моему дяде Карпенко, который был начальником кавалерийского училища. Еще не вполне доверяя нам, он соединился с Зиновьевском, и тут, к великой моей радости, я услышала в трубке голос самого дяди. Начальник станции и мой дядя были на «ты», они оказались однополчанами. Тут же вместо утерянных паспортов нам были выписаны отличные документы, и вскоре мы со своими мешками очутились в Киеве. На вокзале мы удачно продали пшено, это обеспечило нам возможность просуществовать еще два месяца.
Дома я узнала, что в мое отсутствие по два раза в день приходил Нейгауз. Он негодовал, что я уехала, ему не сказав. Приведя себя в порядок, я пошла к нему на Лютеранскую, 32. Он познакомил меня с П.П. Сувчинским, который собирался за границу и оставлял ему две комнаты. В этой же квартире жила певица Бутомо-Незванова[7]. Это была женщина со всесторонними интересами, она увлекалась стихами, хорошо знала литературу и любила собирать у себя знаменитостей из артистической среды.
Генрих Густавович и я продолжали бывать друг у друга. При этих встречах мы рисковали головой: в Киеве чуть не ежедневно сменялись власти, и на улицах шла стрельба.
Месяц спустя тетя предложила повторить поездку. Я наотрез отказалась, о чем потом пожалела. Дело в том, что она поехала одна и приехала больная сыпным тифом, а будь я с ней, этого, может быть, и не случилось бы. Дома было холодно и голодно, и, несмотря на помощь Нейгауза, выходить ее не удалось; через неделю она умерла у меня на руках. Вдвоем с Генрихом Густавовичем, в сильнейший мороз, мы свезли ее на подводе на кладбище и похоронили. Вернувшись домой, я померила температуру. Оказалось – тридцать девять и восемь. Нейгауз и я решили, что у меня тоже сыпной тиф. Я умоляла его не приходить, чтобы не заразиться, но он не слушался и самоотверженно ухаживал за мной. Ему даже удалось привести врача, который, к счастью, установил, что у меня не сыпняк, а воспаление почек. В этот же день Нейгауз перевез меня к себе на Лютеранскую и трогательно ходил за мной всю болезнь. Поправившись, я стала все силы отдавать тому, чтобы сохранить в эти трудные времена жизнь и здоровье этого крупного музыканта. Так в болезнях, лишениях и голоде началась наша совместная жизнь. Большое чувство обязывало меня к большим жертвам, и в нем я черпала силы для жестокой жизненной борьбы.