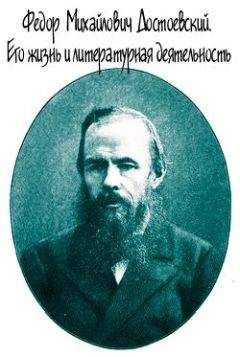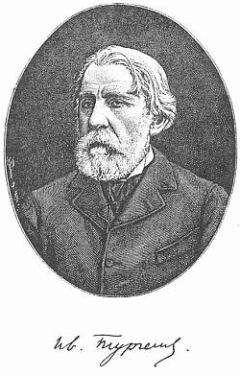Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
Отсюда простой и естественный переход к всесословной волости, такой то есть, где бы рядом, рука об руку, работали и самоуправлялись интеллигенты – безразлично, из какого класса общества, – и крестьяне.
Таковы мысли Герцена. Жизнь не поддержала их, они не осуществились. Но что делать? И кто в этом виноват? Герцен, разумеется, переоценивает живучесть общины, но в те дни такая переоценка была более чем простительна. Никто не знал и не мог знать, что в 1861 году община была уже разрушена или, лучше сказать, уже разложилась под вековым влиянием крепостного права, что она была лишь коконом, из которого давно уже вышло живое существо. На протяжении полутора веков повсюду, особенно в центральной полосе России, «мира» не существовало, зато в избытке существовал помещичий деспотизм, который медленно, тихо, систематически разлагал общину.
В 1861 году община нуждалась не в восстановлении, а в воссоздании. Но это дело не для рук человеческих.
Этого, повторяю, Герцен не видел и не мог видеть. И все же его программа была полнее и реальнее, чем та, которая была осуществлена в действительности.
Но особенно поучительна не экономическая, а философско-историческая сторона вышеприведенной программы. С одной стороны, Герцен требует сохранения народных исторических форм жизни, с другой, – он особенно подчеркивает преимущество России перед Европой в деле социального обновления. В связи и с тем, и с другим он не раз слышал обращенное к нему прозвание «славянофил» – прозвание, во всяком случае неприятное для человека, который жил и вырос совсем в других взглядах и сам принимал горячее участие в борьбе со «славянами».
Вполне славянофилом Герцен не был никогда и не мог быть; его жизненный опыт и темперамент по необходимости делали его человеком другого лагеря. Славянофильство – ведь это тоже утопия, к тому же довольно наивная. Требовалось захотеть и вернуться назад, к старым формам жизни. Но разве захотеть так легко и разве, когда человек захотел, все так и делается по его желанию? У истории свои законы, свой ход, своя воля. Человек и его воля только элемент, и едва ли значительный, в деле созидания истории. Климат, наcледственность, традиция, экономическая обстановка, его собственная инертность, будучи правильно растолкованы, могли бы значительно поубавить его гонору.
Герцен сказал однажды: «Признать, что никакого выхода нет, – тоже выход»; результатом своего жизненного опыта он называл «смирение» как преклонение перед истиной, как пожертвование самонадеянными человеческими иллюзиями. Разбирая какой-нибудь жизненный практический проект, он прежде всего ставит вопрос о его возможности или невозможности. Очевидно поэтому, что со «славянами» он должен был расходиться в существеннейшем пункте: у него не было их веры во всемогущество человека, не было веры и в то, что человек может получить откуда-нибудь могущественную постороннюю помощь.
Он разочаровался в Европе, но это не было безусловным разочарованием пессимиста. До того, чтобы заподозрить состоятельность науки, знания, он не доходит никогда. В его глазах они были и остались навсегда обновляющими силами, источниками живой воды.
«Наука, – писал он между прочим, – спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким, нескрываемым презрением… Наука учит нас смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое свысока, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли, ничего не скрывает для кокетства. Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда как врач, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией. Наука – любовь, как сказал Спиноза о мысли и ведении».
Эту-то любовь и призывал Герцен в Россию, чтобы обновить ее…
Но, разумеется, в первое время он поторопился взвинтить себя.
«Теперь я бешусь, – писал он, – от несправедливости узколобых публицистов, которые умеют видеть деспотизм только под 59-м градусом северной широты. Откуда и почему две разные мерки? Осмеивайте и позорьте, как хотите, петербургский абсолютизм и наше терпеливое послушание, но позорьте же и указывайте деспотизм повсюду, во всех его формах, является ли он в виде президента республики, временного правительства или национального собрания».
Непонимание и враждебность иностранцев были постоянным жалом, возбуждавшим Герцена к защите России. В пылу полемики он прибегал к натянутым аргументам и возводил в квадрат свое построение, хотя, разумеется, верить в Россию, в ее будущность, как и в будущность каждого вообще народа, – не грех и не преступление, а скорее наоборот. Эта вера крепит, лишь бы не превращалась она в догмат, не терпящий ни возражений, ни ограничений. Общую свою мысль Герцен выражает так:
«Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества; это нечто трудно уловить словами, а еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, но вполне сознательной силе, которая столь чудесно сохранила русский народ под игом турецких орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и под западными капральскими палками; о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина под унизительным гнетом крепостного состояния, которая на царский приказ образоваться ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина; о той, наконец, силе и вере в себя, которая жива и в нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русский народ, его непоколебимую веру в себя, сберегла вне всяких форм и против всяких форм; для чего?… Покажет время». И дальше: «Россия является последним народом, полным юношеских стремлений к жизни в то время, когда другие чувствуют себя усталыми и отжившими».
* * *Как это ни странно, но момент высшего торжества, то есть 19 февраля 1861 года, был для «Колокола» началом падения. Ни один из дальнейших его проектов (например, созыв земского собора, освобождение Польши и так далее) не встретил прежнего сочувствия. Он стал хиреть, и очень быстро. Его тираж с двух тысяч упал до 500 экземпляров уже в 1863 году и больше не поднимался. Промучившись несколько лет, Герцен стал было издавать «Колокол» на французском языке, чтобы знакомить Европу с Россией. Но «французский» «Колокол» не пошел совсем. Пришлось прекратить дело.
В падении «Колокола», как мы это сейчас увидим, обвиняют обыкновенно Бакунина (отчасти и Огарева), его революционную и террористическую пропаганду (например «В топоры»), сочувствие польской революции и пр.
Это верно только отчасти. Дело же в том, что после 1861 года «Колокол» утерял свой raison d'être. Он был так тесно связан с освобождением крестьян, что с достижением этой цели его редактору и вдохновителю как публицисту стало нечего делать.