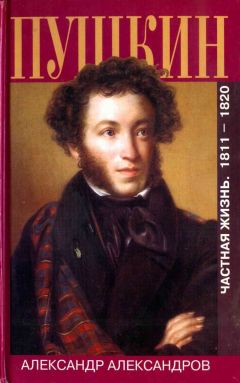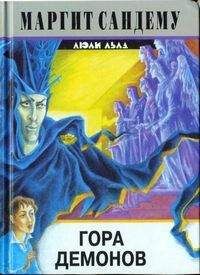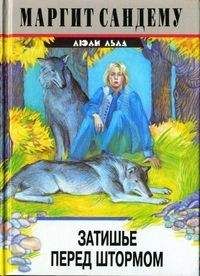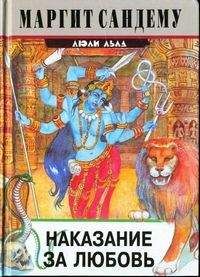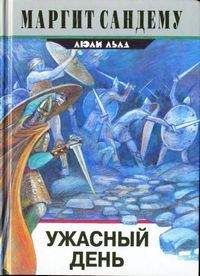Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Николай Корсаков в это время находился в кабинете у лицейского доктора Франца Осиповича Пешеля, словака из Моравии, давно уже, как и многие иностранцы, обретшего вторую отчизну в России. Франц Осипович был сравнительно молодой еще человек, лет тридцати, оплывший, однако, уже жирком, с брюшком, натурою весельчак, никогда не унывающий, уморительно говоривший по-русски, добрый человек, о котором плохо могли отзываться только его больные.
— А это не вредно? — повторил свой вопрос Корсаков. — Я так боюсь, что это повредит мне в будущем… Когда встанет вопрос о браке.
— Ну как вам сказать? — закатил глазки толстяк, а потом лукаво посмотрел на пациента. — Это есть, безусловно, истощение молодой неокрепший организм, но тем не менее многие вьюноши, даже ошень умный, практиковать, когда нет женщина!.. — Он рассмеялся. — Столько веков! Деторождению никак не мешать. Любовь не мешать! Я видел в петербургском зоосаде старый одинокий обезьян, орангутанга его звать. Представьте себе, и он тоже… Природа… Любовь нет. Рукоблудие есть. Никто не нужен. Сиди и чеши хвост. — Он снова рассмеялся и пощекотал Корсакова. Тот вздрогнул от щекотки. — Вольноваться не надо. Ваш тофарищ — дурной человек. Бегите, бегите. Раз-два, раз-два! Упражнения на воздух. Пуф-пуф! Не думай! Не думай! — Он постучал себя по голове. — Мальшики, много воображения. У вас сейчас класс фехтования. Раз-два, иди коли! — Он погрозил пальцем. — Тот ошень плохой мальшик, не дружи с ним. Хочешь бабьей кожи? — Он дико захохотал. — Она сладкая…
Корсаков так и не понял, что ему советует доктор Пешель, и поднялся, чтобы уйти.
В гимнастическом зале воспитанники под руководством месье Вальвиля отрабатывали удары. Часть воспитанников отдыхала, сидя на скамейках, поставленных вдоль стены зала.
Войдя в гимнастический зал, Корсаков первым, против своей воли, увидел Гурьева, который что-то восторженно рассказывал Корфу, заглядывая тому в глаза. Корсаков не стал подходить к ним, а остановился рядом с Комовским, который тоже следил за этой парочкой.
— Так! — захлопал в ладони и остановил всех месье Вальвиль. — Показываю теперь прием ангаже: как вывести рапиру противника из линии прямого удара. И прием дегаже, как нанести после ангаже ответный укол. Встаньте в пару со мной, господин Пушкин.
Пушкин подошел и встал насупротив фейхтмейстера.
— Господин Пушкин наносит мне прямой удар с выпадом, который мы теперь отрабатывали. Приготовились, господин Пушкин, начали!
Пушкин легко и свободно, на четыре следа, подскочил к месье Вальвилю и нанес прямой удар, как их учили. Так же легко и свободно месье Вальвиль провел прием ангаже, состоящий в переносе своего клинка под клинком противника и приложения сильной части своей рапиры к слабой противника. Тут же последовал прием дегаже, и месье Вальвиль показал укол на груди Пушкина.
— Теперь смотрите внимательно, — сказал фейхтмейстер. — Повторяю еще раз, только медленно. Прошу вас, господин Пушкин, тоже медленно.
И они повторили, один — свой выпад с прямым ударом, другой — защиту.
— Теперь встали в пары для ведения боя! Вы, вы и вы! Вы! — отобрал месье Вальвиль воспитанников, в число которых не попали Корф, Корсаков, Комовский и другие.
— Месье Вальвиль, извините, я был у доктора Пешеля, — сказал ему Корсаков.
— Хорошо, хорошо, — отмахнулся тот, он был увлечен своим уроком.
Комовский, увидев, что Гурьеву пришлось покинуть своего собеседника, приблизился к Корфу.
— Модест, — тихо сказал он барону. Тот посмотрел на него. — Вы по своей природной простоте не понимаете речей хитрых сих обольстителей… Как мне тяжело и невыносимо это видеть…
— Да каких же речей?! — возмутился Корф. — Каких речей? Мы с ним говорим о всяких пустяках.
— Ваша невинность… Яд похвал льстецов… Вы стали избегать меня… — шептал Комовский, и глаза его наполнялись слезами умиления. — А я всегда мыслил вас вернейшим до самого гроба другом…
Комовский проследил за взглядом Корфа и понял, что тот наблюдает за Гурьевым.
— Этот Гурьев — порождение ехидны! — бросил Комовский презрительно.
— Оставьте! — сухо сказал Корф. — Вам все представляется в неверном свете. Ваша мнительность начинает мне надоедать. Гурьев — мой друг, и мне не хотелось бы, чтобы вы говорили о нем столь неуважительно. Прошу вас, Серж, оставьте меня.
— Я четыре года, — взволновался Комовский, — был в таком училище и видел всякого рода детей, я только хотел предупредить вас о пропасти, в которую можно пасть… Я видел, как к вам пристает и Пущин, он говорил вам о вашей красоте…
— Оставьте меня, — еще раз оборвал его Корф и закричал: — Коли его! Коли!
Слезы выступили на глазах у Комовского, но уже не слезы умиления, а горечи и обиды, тем более обидной, что незаслуженной. В одно мгновение рухнула дружба, участь его была решена. Он ринулся вон из гимнастического зала. За его спиной слышались крики возбужденных воспитанников и удары ног по деревянному полу.
Комовский вбежал в свой 35-й номер и упал с рыданиями на кровать. Как объяснить ему, своему другу Модесту, что перед ним развратники, что гореть им в геенне огненной, и первыми туда попадут два приятеля, Пушкин и Пущин. Ему особенно было неприятно внимание Пущина к Модесту. Стоило ему вспомнить, как Пущин в бане, поигрывая яйцами, показывал Модиньке свой предмет, как краска заливала его лицо. Да и Егоза Пушкин был ненамного лучше, со своими стихами матерного содержания, которые он читал на каждом шагу. Иногда Лисичке приходило в голову доложить инспектору об этих стихах, но Пушкин был хитер, все стихи держал в голове и другим запретил делать копии. Саша Горчаков любил хвастать, что единственную копию «Тени Баркова», которую переписал своим отчетливым почерком Костя Данзас, он на глазах остальных сжег. Горчаков всегда проявлял себя дипломатически. Этим он защитил не только Пушкина, но и всех других, в том числе и себя, от неприятностей.
Немного успокоившись, Комовский встал и опустился на колени перед образом Богородицы, висевшим в его комнате. Это была икона, которой его благословила родная матушка и к которой он всегда обращался в трудные минуты.
— Я спасу его, — прошептал он жарко. — Ценою любой жертвы я спасу его от гнусных людей, которые всеми силами пытаются развратить его. — Он перекрестился истово и обратился уже к Богородице, взирая на ее иконописный лик: — Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.