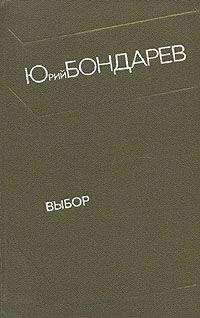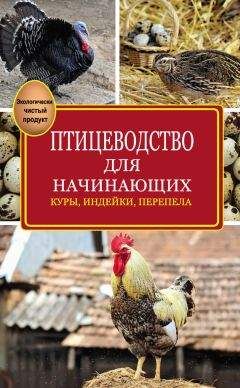Ю Бондарев - Выбор
Злые ноздри Лазарева кругло раздувались, его глаза побелели до дымной пустынности, он проговорил хрипло:
- Жми, дави, лейтенант! Только уж гляди! Я тоже медведя завалить могу. Я охоту люблю... и заваливал...
Его крупная рука тяжело, случайно и скользяще тронула ножны финки и мгновенно отпустила их, в белую пустыню его выеденных ненавистью глаз страшно было глядеть, однако Илья, не дослушав угрожающего намека, нехотя встал, проникая любопытным взглядом в его опаляющие зрачки, скомандовал вполголоса:
- Марш на энпэ, старшина. И поменьше торчите у меня на виду, пока не поумнели.
- А что? Мы можем. Это мы враз. На энпэ так на энпэ, - осклабился Лазарев и, притворяясь по-службистски подтянутым, схватил с лавки автомат, враскачку подошел к испуганной хозяйке: - Спасибо, красавушка, за угощенье, до гроба помнить буду и чай, и сало, и самогончик. Сыт от пуза.
- Да я ж... да не кушали ж еще вы, да не выпили... - растерянно проговорила хозяйка в крутую спину выходившего Лазарева.
- Ничего страшного. Такие, как он, Наденька, с голоду не умирают. Ну, да ладно, - сказал Илья беззаботно и вынул тряпочку из горлышка бутылки, разлил самогон в чашки. - По сто грамм можно, думаю, а? Что, Наденька, чокнетесь с нами? - продолжал Илья добродушно и, подняв чашку, вновь обратился к хозяйке: - Разрешите, Наденька, за вас... за милую гостеприимную хозяйку! Как, Володя, ты поддерживаешь мой тост? За Надю, за то, что нам повезло встретиться с такой милой женщиной!
Он хотел понравиться ей и был возбужден этим бездумным ухаживанием, ни к чему не обязывающей легкой болтовней, этим почти городским уютом не тронутого войной чистенького домика, в котором хозяйка жила одинокой загадочной жизнью и теперь отвечала на его веселые слова растерянно дрожащей на длинных губах улыбкой, и Владимир неловко спросил, разглядев над комодом фотокарточку строгого парня в фуражке железнодорожника:
- А муж на фронте?
Она ответила ослабленным певучим голосом:
- Ушел, как война началась, и ни слуху ни духу. Год мы только и пожили. Убитый он...
Он проснулся оттого, что его трясли за плечо и кто-то повторял шепотом:
- Володька, вставай!
Он вскинулся на лавке, очнувшись от сна, услышал в духоте хаты равномерное посапыванье задремавшего связиста у аппарата, глубокую тишину ночи: на столе немощно горела керосиновая лампа, пахло перегретым закопченным стеклом.
- Вставай же!
Возле стоял Илья в распоясанной гимнастерке и без портупеи, его шепот осекался ласковой хрипотцой, в полутьме лицо светилось мягкой удовлетворенной усталостью.
- Что? - спросил Владимир быстро. - Что ты?
- Иди, - сказал Илья и толкнул его в плечо. - Она тебя ждет.
- Кто ждет? - не понял Владимир.
- Надя. Она на сеновале, во дворе, - ответил Илья и сел рядом на лавку, горячий, потный, коротко засмеялся. - Ну и женщина! - Он потрогал губу и заговорил, возбужденно прищуриваясь: - Если завтра не будет следов от зубов, значит - повезло. Не женщина, а сатана. Но, знаешь, она все разрешает, только боится этого... Слушай, такие роскошные груди, бедра... Иди! Она сказала, что не я, а ты ей нравишься. Так иди, Володька, что смотришь? Она ждет, говорю тебе.
Илья обнял его за плечи, подтолкнул с дружеским поощрением:
- Ступай.
"Сейчас он был на сеновале с той милой молодой женщиной и там целовал ее длинные губы... а теперь он хочет, чтобы пошел я? Пойти к Наде после него? Разве можно целовать женщину после кого-нибудь? Нет, у меня не хватит смелости. Я не могу..."
Но эта незнакомая Надя нравилась и ему, а когда она сидела с ними и угощала обоих за столом, от близости ее полной груди, крепких бедер, ее опрятного сильного молодого тела было порой тесно и томительно жутко и перехватывало дыханье от близости ее карих глаз, иногда нежных, покорных, лишь только он встречался с ней взглядом, принимая из женских ухаживающих рук чашку с заваркой смородинового листа.
- Не проснулся? Что пнем сидишь? Иди! И хватит думать. Сеновал в клуне. Выйдешь - и увидишь. Проводить тебя, что ли?
- Перестань глупить, Илья. Я сам знаю, что мне делать.
Владимир слегка оттолкнул его, поднялся и через маленькую, напитанную духом хлеба кухню, отблескивающую крохотным оконцем, вышел в темноту сада на росистый воздух. Все было тихо, свежо: на траву, на листву деревьев пал влажный холодок глухой ночи, над ветвями играли, переливались июльские звезды.
Часового не было около дома, не слышно было его шагов, шуршанья по траве - наверное, стоял или сидел где-нибудь в саду, вслушивался в это безмолвие ночного часа.
Сарай проступал черным пятном в конце дворика, и там ждала его на сеновале молодая женщина, которую Илья, не стесняясь, называл Надей, Наденькой, которая так краснела и мягко улыбалась им то робеющими, то расширяющимися глазами на загорелом лице, так прямо держала спину и круглую шею с тонкими, светлыми завитками волос, как будто в одиночестве долго ждала, чтобы тоже понравиться им своей сохраненной девической статью, своей опрятностью, не уничтоженной деревенской работой в доме.
"Это - трусость. Как просто ухаживал за ней Илья и как непросто все у меня! Для чего все это? Я не хочу... Я думаю о Маше и не могу пойти к ней... Но что подумает обо мне Илья?.."
Клуня с сеновалом была в двадцати шагах от дома, только надо было пройти мимо тополей рядом с колодцем посреди дворика, подойти к полураспахнутой двери и здесь позвать тихонько: "Надя", - и там не будет стыдно в непроглядном мраке, и он упадет вместе с ней, с ее крепким телом, куда-то в гибельную жуть сладчайшего хаоса, что не в полную меру испытал раз до войны, словно бы во сне.
- Наденька, - сказал он, пробуя произносить ее имя шутливо, как произносил Илья, но подражание получилось натужным, насильным, и он проговорил шепотом в пугающий его проем двери: - Надя!.. Надя, послушайте...
- Иди ж сюда, хлопчик. Иди ж...
Он стал шарить рукой по стене, слыша сумасшедшие рывки сердца, потом дверь заскрипела, шатаясь, заелозила на старых петлях, откинутая к стене сарая, а впереди из темени, пропахшей деревенскими запахами, сквозь удары крови в голове доходил до него неразборчивый шепот, певучий, быстрый, в одурманивающем медовом аромате сухого сена, и вдруг он наткнулся на горячие ловкие руки, потянувшие его к себе, на жарко дышащие раскрытые губы, ощутил мучительную близость полных, прохладных грудей, шелковистое тепло ее живота, чистоплотный, свежий огуречный запах ее шеи и плеч, упал вместе с ней на подстеленное одеяло в сено и, чувствуя, как подались ее колени под его коленями, внезапно замерз от влажных ее зубов, от ласкающего, бесстыдного движения ее объятий, от плывущего волнистого шепота, окутавшего его оранжевыми кругами: