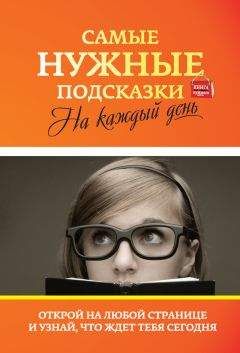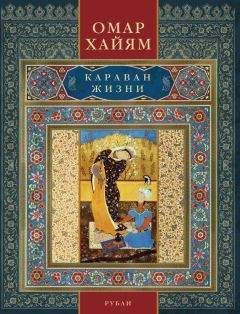К Енко - Ф Достоевский - интимная жизнь гения
Не знаю, как вы насчет женских личик, но, по-моему, эти шестнадцать лет, эти детские ещё глазки, эта робость и слезинки стыдливости, по-моему, это лучше красоты, а она ещё к тому ж и собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам, и на другой же день, третьего дня то есть, нас и благословили. С тех пор как приеду, так сейчас её к себе на колени, да так и не спускаю… Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно; мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что это так требуется, одним словом, малина! И это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, лучше и мужнего… Ха-ха! Я с нею раза два переговаривал — куда не глупа девчонка; иной раз так украдкой на меня взглянет — ажно прожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: бриллиантовый убор один, жемчужный другой да серебряную дамскую туалетную шкатулку — вот такой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у мадонны-то, личико зарделось. Посадил я её вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только одно мое уважение и более мне, говорит, «ничего, ничего не надо, никаких подарков!» Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, со взбитыми локончиками, с краскою девичьего стыда и со слезниками энтузиазма в глазах, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну…ну слушайте… ну, поедемте к моей невесте… только не сейчас!
— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели в самом деле так женитесь?
— А что ж? Непременно. Всяк об себе сам промышляет и всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Ха-ха! Да что вы в добродетель-то так все дышлом въехали? Пощадите, батюшка, я человек грешный. Хе-хе-хе!
ТЕМНЫЙ РАЗВРАТ
(Из романа «Униженные и оскорбленные»)
Ровно в семь часов я был у Маслобоева. Он жил в Шестилавочной, в небольшом доме, во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прехорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с предобрыми, веселыми глазками.
Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила: кто я, и, услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном, мягком диване, накрытый своею грязною шинелью, с кожаной истертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий; только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени.
— А! Это ты? Жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будишь. Значит, пора. Едем.
— Куда едем?
— К даме.
— К какой? Зачем?
— К мадам Бубновой, затем чтобы её раскассировать. А какая красотка-то! — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой…
— Тьфу ты с своей Бубновой! — и Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании.
— Пора! идем! Прощайте, Александра Семеновна!
Мы вышли.
— Видишь, Ваня, во-первых, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых, я давеча, как с тобой простился, кой-что ещё узнал и узнал уж не по догадкам, а в точности. Я ещё на Васильевском целый час оставался. Этот пузан — страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами. Эта Бубнова давно уж известна кой-какими проделками в этом же роде. Она на днях с одной девочкой из честного дома чуть не попалась. Эти кисейные платья, в которые она рядила эту сиротку (вот ты давеча рассказывал), не давали мне покоя; потому что я кой-что уже до этого слышал. Давеча я кой-что ещё разузнал, правда совершенно случайно, но, кажется, наверно. Сколько лет девочке?
— По лицу лет тринадцать.
— А по росту меньше. Ну, так она и сделает. Коли надо, скажет одиннадцать, а то пятнадцать. И так как у бедняжки ни защиты, ни семейства, то…
— Неужели?
— А ты что думал? Да уж мадам Бубнова из одного сострадания не взяла бы к себе сироту. А уж если пузан туда повадился, так уж так. Он с ней давеча утром виделся. А болвану Сизобрюхову обещана сегодня красавица, мужняя жена, чиновница и штаб-офицерка. Купецкие дети из кутящих до этого падки; всегда про чин спросят. Это как в латинской грамматике, помнишь: значение предпочитается окончанию. А впрочем, я еще, кажется, с давешнего пьян. Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей.
Она и полицию надуть хочет; да врешь! А потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти… ну и прочее — понимаешь?
Я был страшно поражен. Все эти известия взволновали мою душу. Я все боялся, что мы опоздаем, и погонял извозчика.
— Не беспокойся; меры приняты, — говорил Маслобоев. — Там Митрошка. Сизобрюхов ему поплатится деньгами, а пузатый подлец — натурой. Это ещё давеча решено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится… Потому она не смей…
Мы приехали и остановились у ресторации; но человека, называвшегося Митрошкой, там не было. Приказав извозчику нас дожидаться у крыльца ресторации, мы пошли к Бубновой. Митрошка поджидал нас у ворот. В окнах разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех Сизобрюхова.
— Там они все, с четверть часа будет, — известил Митрошка. — Теперь самое время.
— Да как же мы войдем? — спросил я.
— Как гости, — возразил Маслобоев. — Она меня знает; да и Митрошку знает. Правда, все на запоре, да только не для нас.
Он тихо постучал в ворота, и они тотчас же отворились. Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой. Мы вошли тихо; в доме нас не слыхали. Дворник провел нас по лесенке и постучался. Его окликнули; он отвечал, что один: «дескать, надоть». Отворили, и мы все вошли разом. Дворник скрылся.