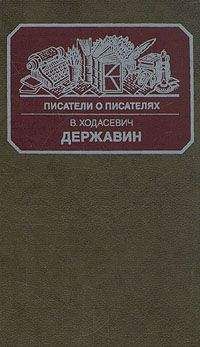Леонид Рабичев - Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945
Надеясь на что-то, окружили меня. Все что-то говорят.
А уже весть проносится по городу, и уже выстроилась очередь, и опять этот проклятый гогот, и очередь, и мои солдаты.
– Назад, е… вашу мать! – ору я и не знаю, куда девать себя и как защитить валяющихся около моих ног, а трагедия стремительно разрастается.
Стоны умирающих женщин. И вот уже по лестнице (зачем? почему?) тащат наверх, на площадку окровавленных, полуобнаженных, потерявших сознание и через выбитые окна сбрасывают на каменные плиты мостовой.
Хватают, раздевают, убивают. Вокруг меня никого не остается. Такого еще ни я, никто из моих солдат не видел. Странный час.
Танкисты уехали. Тишина. Ночь. Жуткая гора трупов. Не в силах оставаться, мы покидаем костел. И спать мы тоже не можем.
Сидим на площади вокруг костра. Вокруг то и дело разрываются снаряды, а мы сидим и молчим.
Утром две дивизии разрывают кольцо нашего окружения, и мы уже оказываемся в тылу.
7 мая 2002 года, спустя пятьдесят восемь лет
– Я не желаю слушать это, я хочу, чтобы вы, Леонид Николаевич, этот текст уничтожили, его печатать нельзя! – говорит мне срывающимся голосом мой друг, поэт, прозаик, журналист Ольга Ильницкая.
Происходит это в 3-м госпитале для ветеранов войны в Медведкове. Десятый день лежу в палате для четверых. Пишу до и после завтрака, пишу под капельницей, днем, вечером, иногда ночью.
Спешу зафиксировать внезапно вырывающиеся из подсознания кадры забытой жизни. Ольга навестила меня, думала, что я прочитаю ей свои новые стихи.
На лице ее гримаса отвращения, и я озадачен.
Совсем не думал о реакции будущего слушателя или читателя, думал о том, как важно не упустить детали. Пятьдесят лет назад это было бы куда как проще, но не возникало тогда этой непреодолимой потребности. Да и я ли пишу это? Что это? Какие шутки проделывает со мной судьба!
Самое занятное, что я не ощущаю разницы между этой своей прозой и своими рисунками с натуры и спонтанно возникающими стихами.
Зачем пишу?
Какова будет реакция у наших генералов, а у наших немецких друзей из ФРГ? А у наших врагов из ФРГ?
Принесут ли мои воспоминания кому-то вред или пользу? Что это за двусмысленная вещь – мемуары! Искренно – да, а как насчет нравственности, а как насчет престижа государства, новейшая история которого вдруг войдет в конфликт с моими текстами? Что я делаю, какую опасную игру затеял?
Озарение приходит внезапно.
Это не игра и не самоутверждение, это совсем из других измерений, это покаяние. Как заноза, сидит это внутри не только меня, а всего моего поколения. Вероятно, и всего человечества. Это частный случай, фрагмент преступного века, и с этим, как с раскулачиванием 30-х годов, как с ГУЛАГом, как с безвинной гибелью десятков миллионов безвинных людей, как с оккупацией в 1939 году Польши, нельзя достойно жить, без этого покаяния нельзя достойно уйти из жизни. Я был командиром взвода, меня тошнило, смотрел как бы со стороны, но мои солдаты стояли в этих жутких преступных очередях, смеялись, когда надо было сгорать от стыда, и, по существу, совершали преступления против человечества.
Полковник-регулировщик? Достаточно было одной команды? Но ведь по этому же шоссе проезжал на своем «Виллисе» и командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Черняховский. Видел, видел он все это, заходил в дома, где на постелях лежали женщины с бутылками между ногами? Достаточно было одной команды?
Так на ком же было больше вины: на солдате из шеренги, на полковнике-регулировщике, на смеющихся полковниках и генералах, на наблюдающем мне, на всех тех, кто говорил, что война все спишет?
В марте 1945 года моя 31-я армия была переброшена на 1-й Украинский фронт в Силезию, на Данцигское направление. На второй день по приказу маршала Конева перед строем было расстреляно сорок советских солдат и офицеров, и ни одного случая изнасилования и убийства мирного населения больше в Силезии не было. Почему этого же не сделал маршал Черняховский в Восточной Пруссии? Сумасшедшая мысль мучает меня – Сталин вызывает Черняховского и шепотом говорит ему:
– А не уничтожить ли нам всех этих восточнопрусских империалистов на корню, территория эта по международным договорам будет нашей, советской?
И Черняховский – Сталину:
– Будет сделано, товарищ генеральный секретарь!
Это моя фантазия, но уж очень похожа она на правду. Нет, не надо мне ничего скрывать, правильно, что пишу о том, что видел своими глазами. Не должен, не могу молчать! Прости меня, Ольга Ильницкая.
Из дневника 1945 года: «В городе Лаубане седая женщина прыгала на четвереньках. Никто не заставлял ее делать этого. Ей хотелось рассмешить русских солдат. Единственный ее сын погиб на Восточном фронте».
Шли ожесточенные бои на подступах к Ландсбергу и Бартенштайну. Расположение дивизий и полков медленно, но менялось.
Как я уже писал, второй месяц я был командиром взвода управления своей отдельной армейской роты и отдавал распоряжения командирам трех взводов роты о передислокациях и прокладывании новых линий связи между аэродромами, зенитными бригадами и дивизионами, штабами корпусов и дивизий, а также по армейской рации передавал данные о передислокациях в штаб фронта и, таким образом, находился в состоянии крайнего перенапряжения. И вдруг заходит ко мне мой друг, радист, младший лейтенант Саша Котлов и говорит:
– Найди себе на два часа замену. На фольварке, всего минут двадцать ходу, собралось около ста немок. Моя команда только что вернулась оттуда. Они испуганы, но если попросишь – дают, лишь бы живыми оставили. Там и совсем молодые есть. А ты, дурак, сам себя обрек на воздержание. Я же знаю, что у тебя полгода уже не было подруги, мужик ты, в конце концов, или нет? Возьми ординарца и кого-нибудь из твоих солдат и иди! И я сдался.
Мы шли по стерне, и сердце у меня билось, и ничего уже я не понимал. Зашли в дом. Много комнат, но женщины сгрудились в одной огромной гостиной. На диванах, на креслах и на ковре на полу сидят, прижавшись друг к другу, закутанные в платки. А нас было шестеро, и Осипов, боец из моего взвода, спрашивает:
– Какую тебе?
Смотрю, из одежды торчат одни носы, из-под платков глаза, а одна, сидящая на полу, платком глаза закрыла. А мне стыдно вдвойне. Стыдно за то, что делать собираюсь, и перед своими солдатами стыдно: то ли трус, скажут, то ли импотент. И я как в омут бросился, и показываю Осипову на ту, что лицо платком закрыла.
– Ты что, лейтенант, совсем с ума, б…, сошел, может, она старуха?
Но я не меняю своего решения, и Осипов подходит к моей избраннице. Она встает, и направляется ко мне, и говорит:
– Герр лейтенант – айн! Нихт цвай! Айн! – И берет меня за руку, и ведет в пустую соседнюю комнату, и говорит тоскливо и требовательно: – Айн, айн.