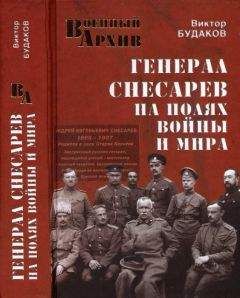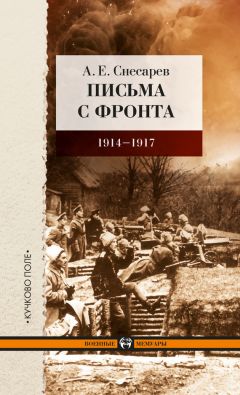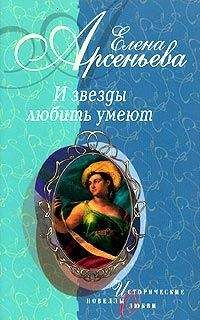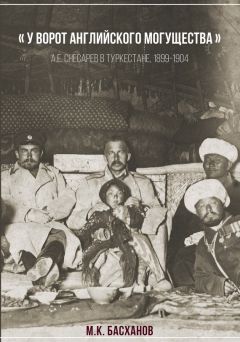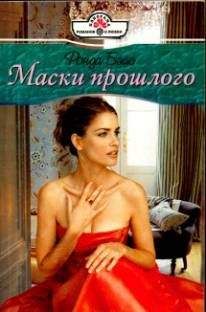Елена Прокофьева - Плевицкая. Между искусством и разведкой
А затем привычный контраст — взрывается бурная музыка, и слышится пение, мерно хлопают руки и топают сапоги — перед нами попойка в штабе генерала Голубкова: танцует с кинжалом точеный грузин, сконфуженный самовар перекашивает лица, и Славская, гортанно смеясь, откидывает голову, и в стельку пьяный жирный штабной, разодрав ворот и выпятив сальные губы для животного поцелуя, тянется через стол (крупный план опрокинутого стакана), чтобы обрамить пустоту, ибо подтянутый и совершенно трезвый Голубков ловко выхватывает ее из-за стола, и они стоят перед пьяной оравой, и Голубков произносит холодным и ясным голосом: "Господа, вот моя невеста", — и в наступившем ошеломленном молчании шальная пуля разбивает засиневшее на рассвете стекло, и канонада рукоплесканий приветствует романтическую чету".
Они действительно решили пожениться еще там, в Крыму. Левицкий согласился дать развод Надежде Васильевне, признав наконец свой брачный союз "неудавшимся". Но времени на развод и новое бракосочетание не хватило.
Глава 10
ЛЮБОВНИЦА ГЕНЕРАЛА
Борьба русской армии Врангеля с превосходящими силами красных длилась семь месяцев — семь месяцев жесточайших боев и высочайшего героизма, семь месяцев отчаяния и надежды. Позорное поражение в Новороссийске было смыто кровью — своей и чужой — русской кровью. Но это ничего уже не могло изменить, потому что силы были неравны и "большевистская зараза" (иными словами — "чистый пламень мировой революции" — ибо на любое явление можно взглянуть двояко) захватила всю бывшую империю.
К середине октября 1920 года командование Красной армии собрало в Таврии войско, вчетверо превосходящее силы противника, и в новых кровопролитных боях последнее сопротивление белых было сломлено.
Отступление из Крыма стало одной из самых кошмарных страниц Гражданской войны: остатки белых дивизий — отчаявшиеся, обескровленные, измученные — из последних сил сражались у Перекопа и Салькова, на Крымских перешейках, обеспечивая тем самым эвакуацию раненых и гражданского населения.
Эвакуация проводилась спешно. Население — да и армейское командование — было охвачено паникой. Множились рассказы о зверствах красных в уже захваченных ими областях, а потому по трапам кораблей военного и гражданского флота спешили даже те, кто месяцем раньше и не подумал бы бежать из России, у кого не было каких-то особых причин бояться большевиков, даже те, кто некогда сочувствовал революционным идеям. Их мир в одночасье рухнул. Нет, не тогда, когда в далеком Петербурге власть захватили большевики, и не тогда, когда в еще более далеком Екатеринбурге убили их Государя, — только сейчас всеобщая беда докатилась до них и обрушилась с двойной, тройной силой, тем более что они не были к этому готовы. Дворцы, превращенные в лазареты, тысячи раненых, эпидемия тифа. Слухи, слухи. Ежедневные вести об отступлении. Беженцы с севера России, из городов, уже сгоревших в пресловутом "чистом пламени". Здесь это было воспринято особенно болезненно, потому что именно здесь к этому совершенно не были готовы! Крым — бывший царский курорт, куда летом выезжал весь высший свет (Кавказ в те времена считался гиблым местом, и в качестве курорта его начали обживать только при Сталине), — благословенная земля: благоухание кипарисов, щедрое солнце, плеск волн, многообразие цветов и фруктов, цоканье копыт прогулочных лошадей, ленивое стрекотание киноаппаратов, кружевные тени от дамских зонтиков. В этом сонном мире не ждали беды. И до самого конца верили, что "все обойдется". А когда поняли, что не обойдется, впали в отчаяние, которому доселе не было равного. В Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи обезумевшие люди переполняли порты, теряли в давке детей, стариков, супругов, кричали, рыдали, сходили с ума — в буквальном смысле лишались рассудка — и успокаивались только тогда, когда оказывались на борту, отделенные от берега полоской воды.
Писатель Иван Сергеевич Шмелев видел эвакуацию Крыма и описал в своем романе "Няня из Москвы". Сам он тогда не уехал — и это было большой ошибкой его, потому что после прихода красных он потерял единственного, обожаемого сына Сережу, инвалида Германской войны, — его расстреляли, как расстреляли всех бывших офицеров, пожелавших остаться в России и служить народу. Шмелев покинул Россию позже, с разрешения сочувствовавшего его трагедии Луначарского. А многие его знакомые эвакуировались из Крыма именно в ноябре 1920 года. По их рассказам и по своим собственным впечатлениям — со стороны — словами безграмотной няни Дарьи он описал то, что там было… Так точно и ярко, как никто другой не смог бы: "На-ро-ду!.. Вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, налужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненых больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: "Выехали все, не оставьте нас на погибель!" Офицера уговаривают-кричат: "Всех заберут, еще пароход будет!" А публика не верит, друг дружку давят, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: "Спокой-ствие! Спокой-ствие! Все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится". Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком… — "Ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?". Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись — не сыщутся. <…> Старушка на глазах закачалась — померла, от сердца. Внучек все кричал: "Бабушка, подыми-ись!" Чего только не видали… Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, — так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, туда-сюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала… — прощай, моя матушка Россия! Прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, — на горы свет ушел".
Остатки русского военного и гражданского флота вряд ли сумели бы вывезти всех, так что беженцам еще относительно повезло, что бывший либеральный политик Петр Бернгардович Струве незадолго до эвакуации белой армии ездил в Париж, где добился от французского президента А. Мильерана сначала признания правительства Врангеля, а затем помощи французского флота при эвакуации гражданского населения. Разумеется, помощь была далеко не бескорыстной и русские заплатили за нее втридорога, но об этом чуть позже…
Сто двадцать шесть больших и малых кораблей отошли от крымских берегов, увозя 145 693 русских, не считая команд, — увозя в полную неизвестность. Никто и нигде не ждал их. Будущего, в сущности, не существовало. А настоящее было ужасно.