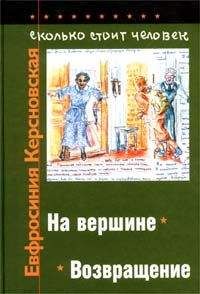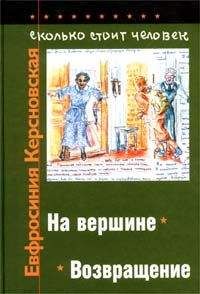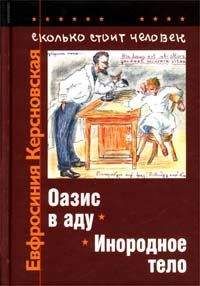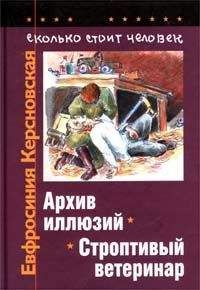Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах.
О люди! Те из вас, которые знают, что такое стыд — жгучий, горький, мучительный стыд, — вы поймете, как это невыносимо мучительно! В России ко многому относятся по-иному: в школе принято всей толпой идти в уборную; в бане женщины всех возрастов находятся вместе голышом; наконец, очень большое количество людей побывало в тюрьмах, где стыд совсем утрачивается. Даже медосмотры проводятся без учета какой-либо стыдливости! Но у нас в Бессарабии, где голышом мать никогда не покажется дочери, а отец — сыну, даже увидеть в зеркале собственное отражение считалось бесстыдством.
А тут приходится на глазах у знакомых оправляться! Пусть от стыда не умирают, но трудно передать словами, как это мучительно! Мы отгораживали эту трубу кто шалью, кто простыней. Постепенно мы хоть и со слезами стыда, но привыкли, а эта бедняжка Муза чуть не погибла.
А голод, жажда, духота, усталость? Все это, само собой, постоянно сопровождало нас, но это легче было переносить!
Люди, так резко, неожиданно и жестоко вырванные из привычной, родной обстановки, на первых порах чувства голода не испытывают — для этого они слишком морально угнетенные, пришибленные. Они просто не могут есть. Это состояние я перенесла год тому назад, когда нас с мамой выгнали из дому. Я как будто не отчаивалась и духом не падала и уже работала на ферме (притом здорово работала!), но целую неделю ну просто в рот ничего не брала! Так получилось почти со всеми, кто ехал в нашем вагоне.
Когда нам, раз в день обычно, приносили какую-то еду, чаще всего похлебку с какой-нибудь крупой, никто не хотел есть! Ее ели только трое: парень, страдавший малярией, его мать и я. И нам вполне хватало. Давали нам и хлеб, хоть и очень нерегулярно. По несколько булок. Мы сами его разделяли на всех. Многие и сами не ели, и сушить сухари не догадались (хоть я и указывала, но безуспешно), а затем выбрасывали зацветший хлеб! Эти горожане еще не знали истинной цены хлеба.
Ну а жажда? Ее мы испытали значительно позже. На первых порах ведра воды нам хватало. Да и после чего пить, если почти никто не ел? Кроме того, вначале погода была прохладной. С духотой мы столкнулись позже.
Что же касается усталости, то многие мучились оттого, что в тесноте нельзя было вытянуться как следует. Да и не все могли с непривычки спать на полу, в телячьем вагоне без рессор трясло и швыряло из стороны в сторону. Я же спала как убитая! Если бы у меня было хоть малейшее предчувствие того, что меня в дальнейшем ожидает, пожалуй, и я потеряла бы сон!
В неведомую даль
Нас везли как своего рода контрабанду. Нам просовывали в дверь то ведро похлебки, то ведро воды, то вытряхивали из торбы хлеб. На вопросы не отвечали, просьбы и жалобы не выслушивали. Даже просьбу о медицинской помощи.
Население нашего вагона было пестрое, по преимуществу не слишком интеллигентное: главным образом мелкие лавочники, чиновники и крестьяне. Преобладали крестьяне. Из интеллигенции — семья Мунтян. Из дворянства — я. Были три профессиональных проститутки.
Характерный эпизод. Одна из них вела себя безобразно: сквернословила, похабничала. К ней повадились ходить «в гости» конвоиры. Однажды, когда к нам на поверку зашел начальник эшелона, я к нему обратилась с просьбой прекратить это безобразие, ведь у нас здесь дети.
Ответил он мне — слово в слово — следующее:
— Да, я понимаю: ей обидно, что ее вроде приравняли к вам, бывшей помещице. Но что поделаешь? Приходится ей терпеть ваше общество!
Итак, нас везли… И никто в нашем вагоне не мог себе представить, куда же это нас везут? И через какие места? Однако постепенно я начала ориентироваться: то прочту название, то услышу. И на стене куском опоки[5] вычертила что-то вроде карты.
Название «Первомайск» мне ничего не сказало. Зато Кременчуг сразу поставил все на место. Так вот он, Днепр, который «чуден при тихой погоде»! Впечатления он на меня не произвел, как впоследствии и Волга. Должно быть, для того, чтобы оценить красоту, надо ее наблюдать не из узенького окошка телячьего вагона!
Сам Кременчуг, во всяком случае та его часть, через которую нас везли, произвел удручающее впечатление! Мы привыкли, что дома, даже самые убогие, были чисто побелены, окна застеклены, чисто промыты и покрашены. А то, что мы видели, было грязно, обшарпано: будто черт метлой пригладил и граблями причесал! Вместо стекол то куски фанеры, картона, то просто тряпье.
Дальше — хуже.
Украина, прекрасная Украина с вишневыми садочками, белыми мазанками, где ты?! Встречались деревни, где половина домов была заколочена. Были и какие-то полуземлянки, крытые дерном или соломой. Садиков с вишнями, подсолнухами, мальвами что-то очень мало. А поля! Большие, безбрежные… Только никак не понять, чем засеяны: пшеницей? сурепкой? осотом? А огрехи[6] на поворотах? Куда смотрят агрономы? Нет! Богатая Украина выглядела далеко не нарядно.
Но вот и Полтава. Сады. Много садов. Сразу чем-то пахнуло родным — напомнило Бессарабию. Но отчего они в таком ужасном состоянии? Сухие ветви, даже целые деревья. Неокопанные, неухоженные. Нам это казалось совсем непонятным, необъяснимым. Не так представляли мы себе колхозный строй!
Харьков. Сразу видно — промышленный центр: сколько железнодорожных путей! Какое огромное паровозное кладбище! И трубы. Целый лес труб. Боже мой! Сколько дыма, копоти, грязи! Просто невероятно!
Затем Воронеж, Тамбов, Пенза…
И вот мы приближаемся к Волге. Сызрань, станция «Батраки», и наш поезд на мосту через Волгу — на том самом мосту, в строительстве которого принимал участие и мой дед, полковник Антон Антонович Керсновский. Не думал он, что его внучку повезут через него в телячьем вагоне!
А о чем думала я, когда переезжала через эту реку, бывшую не раз трудно преодолимым рубежом для азиатских народов, рвавшихся в Европу? Думала я о том, что и для меня это будет нешуточным препятствием. И мысленно прикидывала, смогу ли ее переплыть при помощи пучков камыша? Вода с высоты моста казалась очень синей, какой-то выпуклой и неподвижной. Я знала, что граница Европы и Азии пролегает значительно дальше, по Уралу, но именно теперь, переезжая через Волгу, стало как-то особенно ясно, что Европа и все, что с детства привычно, остается позади.
Мама! Папа завещал мне никогда тебя не покидать… Ты говорила: «Tu es mon baton de vieillesse»[7]. А теперь ты одна, в чужой стране. И ты, Ира! Мой Ирусь, мой «сынку»! Мы были неразлучны. Но как хорошо, что тебя здесь нет! Ты сделала ошибку, выйдя замуж, но может быть, это спасло тебя от судьбы, подобной моей?