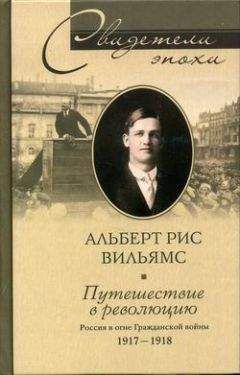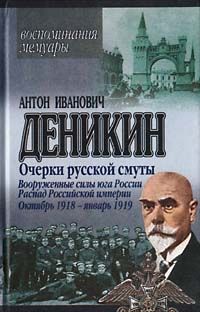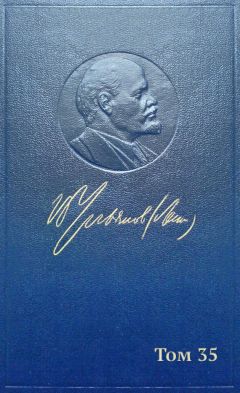Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский
Однако, вернувшись, пора и расстаться с Куоккалой.
В 1917 году, после Февраля, Корней Иванович перебрался в Петроград – сначала в крошечную квартирку на углу Лештукова переулка и Загородного проспекта, а потом (в 1919-м) в большую, просторную, в доме по Манежному переулку, 6, где он и прожил без малого двадцать лет, вплоть до переезда в Москву в 1938 году.
В каком именно месяце 1917 года он перевез нас из Куоккалы в Петроград, в Лештуков переулок, точно не помню. Знаю только, что первого сентября 1917 года я и Коля уже ходили учиться на Моховую улицу: Коля – в Тенишевское училище (прямо напротив дома, где – насколько я помню – позднее разместилось издательство «Всемирная литература»), я – в гимназию Таганцевой (на углу Моховой и Пантелеймоновской). Вскоре оба эти учебные заведения слились в 15-ю единую трудовую школу: мы с Колей оказались в разных классах, но под одной крышей и нередко бегали вместе через дорогу к Корнею Ивановичу… Скоро в той же школе начал учиться и Боба.
«Моим детям посчастливилось» – счастье это валило к нам и дальше: во «Всемирной литературе», в Доме литераторов, в Доме искусств – и просто у себя дома мы видели и слышали Блока, Ахматову, Горького, Мандельштама, Кузмина, Ходасевича, Гумилева, Замятина, Зощенко, Бабеля и многих, многих других. Снова видели и слышали Маяковского. Для Корнея Ивановича Куоккала кончилась навсегда раньше, чем для меня. Я побывала там летом сорокового, а затем в начале шестидесятых годов. Он же был в последний раз в 1925-м: приезжал к Репину.
В конце шестидесятых я прошла по тем камням, где когда-то занимался мечтаниями Коля, взглянула на ручей, где когда-то Корней Иванович вместе с нами сооружал запруду, миновала редкие сосны и вошла в дом. Снаружи он остался почти таким же, каким был при нас; внутри же все было перестроено, только печки те же, да его кабинет, да лестница на второй этаж, с которой я когда-то осторожно сбегала, боясь скрипнуть ступенькой.
Станция уже называлась «Репино». «Пенаты» стали музеем. Отворить калитку в репинский парк я не решилась: заглянешь в колодец, откуда в детстве мы черпали воду, и вдруг послышится:
Дна пня,
Два корня…
Чтобы не было пролито…
Когда, воротившись, я описывала Корнею Ивановичу свой последний поход из Комарова, из Дома творчества писателей, в Репино, он слушал меня хмуро и как бы невнимательно. Вопросов не задавал. Я скоро умолкла.
Воспоминание о том, как потерял он Куоккальскую дачу и как оказалась она разграбленной, было для него не из веселых. В море житейском бывал он столь же неосторожен и беспечен, как и в настоящем море, где однажды чуть не утонул вместе с нами.
В начале двадцатых годов, когда жили мы уже не в Куоккале, а в Петрограде, Корней Иванович разрешил бывшему мужу одной художницы, бывшей куоккальской соседки (посещавшей, как и он, «Пенаты»), пользоваться вещами, оставшимися на даче. Бывший муж бывшей соседки оказался устойчивым негодяем. Дача после нашего отъезда несколько лет стояла нетронутой, полная вещей и книг: уезжая весною 1917 года в Петроград, родители наши рассчитывали летом вернуться и потому увезли только самые необходимые вещи.
Соседи оберегали дом. Но, увидев собственноручную записку хозяина, отступились. Он же хорошо отомстил Корнею Ивановичу за необоснованную доверчивость: распродал наиболее ценное из мебели, утвари и книг. И скрылся. За ним на дачу нахлынуло ворье и довершило разгром.
«Вас тут все знают и вспоминают, – писал из Куоккалы Корнею Ивановичу Репин летом 1923 года. – А я еще вчера, проходя в Оллила, с грустью посмотрел на потемневший дом Ваш, на заросшие дороги и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы! Особенно футуристов… И Алексей Толстой, и Борис Садовской… Даже Индия побывала у Вас – в лице Сахароварды. И многое множество брошюр… с сокрушенным сердцем видел я после, в растерзанном виде, на полу, со следами на всем грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да, целый помост образовался на полах в библиотеках из дорогих редких изданий и рукописей, и под этим толстым слоем нестерпимо лопались, трещали стекла».
Как же нестерпим был звук этих лопающихся под ногами стекол на этом помосте для ушей человека, вошедшего в свой бывший дом?
В 1925 году, в январе, Корней Иванович побывал в Гельсингфорсе и в Куоккале: в «Пенатах» у Репина и у себя на даче.
Вот дневниковая запись:
«Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах».
Да, человек, в особенности если он – личность, запечатлен в своих вещах: дом, созданный им, – это тоже он, тоже его подобие; маска, слепок, но не с мертвого лица, а с живой, работающей души.
«Люблю себя, хранящегося в этих вещах…» Вещи – они, как губка воду, имеют способность впитывать и хранить ушедшее время. Утрата вещей была для него утратой любимого времени, в них запечатленного. Лампа, которую унес из его дома и продал жулик, светила ему с комода в ту пору, когда ему не было еще тридцати, когда дети у него были еще маленькие, когда жил он у самого моря наискосок от «Пенатов», когда от весны до глубокой осени он ходил босиком по песку, по Большой Дороге и по лесу; когда Маяковский читал ему «Облако в штанах», а сам он ходил к Репину читать ему вслух Пушкина или гостям и ему в беседке лекции по современной литературе; когда в 1916 году, во время войны, он готовился к новой поездке в Англию, уже не безвестным мальчишкой-кор-респондентом, как в 1903-м, а в составе делегации русских журналистов и писателей; когда у Репина по средам, а у него по воскресеньям собиралось столько замечательных людей: поэтов, ученых, художников; когда он писал свои поэмы-лекции о Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Короленко, о Лидии Чарской, о футуристах; когда с лекциями разъезжал по всей России.
Эта лампа была куском его жизни, частью его бытия.
«Я не люблю вещей». – «Я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах».
(Сейчас, по моему ощущению, основа его бытия хранится в переделкинском доме в «Энциклопедии Британника», сопутствовавшей ему всю жизнь смолоду, и в копии с репинского портрета, исполненного в 1910 году. С ними он не расставался никогда и вовремя увез из Куоккалы.)
«…сижу один и встречаю Новый год с пером в руке,
– записал Корней Иванович в Петрограде в 1923 году,
– но не горюю: мне мое перо очень дорого – лампа, чернильница, – и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британника», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова».