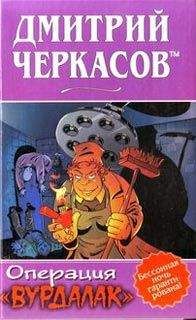Анна Ларина-Бухарина - Незабываемое
По мере продвижения на запад меня, как ни странно, все больше и больше раздражало «бескрайнее» пространство моей камеры — бескрайнее в сравнении с соседними, где заключенные ночью спали поочередно, полулежа или сидя, а те, кто уступал им места, стояли, прислонившись друг к другу. В моем же «купе» могло поместиться человек девять лежа. Мне было как-то неловко перед остальными заключенными — все же люди! Хотя то было дно человеческого общества, несмотря на это пользующееся привилегиями у лагерного начальства. И те и другие — и уголовники, и лагерная администрация — называли нас презрительно «контрики». Необычная передача, узнай о ней кто-нибудь из заключенных, разожгла бы еще большую ненависть ко мне с их стороны, но изоляцию мою ничто не нарушало. «Купе» мое было крайним, за стенкой помещался конвой. Только дежурный, наблюдавший за заключенными, ходивший взад и вперед, взад и вперед, задерживался возле меня дольше и внимательно в меня всматривался. Его, очевидно, поражало и мое одиночество при такой скученности в вагоне, и небывалая передача — от начальства. А я, глядя на маячившего перед глазами конвойного, вспоминала любимую песню отца, связанную с его тюремным дореволюционным прошлым:
Солнце всходит и заходит,
а в тюрьме моей темно.
Днем и ночью часовые
стерегут мое окно.
Поезд проезжал уже по европейской части Союза. Конец декабря, зимние дни коротки, а мне казались они невероятно длинными. Я с нетерпением ждала тьмы, а все не смеркалось и не смеркалось. Ночью становилось тише, прекращалась омерзительная ругань, звучавшая в течение дня непрерывно, точно пулеметная очередь. Хотелось уйти в себя, сосредоточиться и подумать, как противостоять обвинениям на будущих допросах, теперь, когда доносы Лебедевой легли дополнительным грузом на весы моей судьбы. Но на этом я никак не могла сосредоточиться. Я приближалась к Москве, и мне вспомнилось, как мучительно я покидала ее в июне 1937 года. Покидала, оставляя в тюремных застенках Н. И., еще не осужденного, но приговоренного к смерти не только до суда, но и до своего ареста, покидала, с болью отрывая от себя годовалого ребенка…
Это случилось неожиданно. В отношении себя я, по наивности, должно быть, никаких репрессий не ждала. Больше опасалась за мать. И меня тревожило в основном, что я не смогу устроиться на работу и прокормить ребенка. И вдруг звонок в дверь!.. Мы жили в Доме правительства у Каменного моста, в огромном мрачном здании, серым цветом своим похожем на московский крематорий. К тому времени этот дом, называемый теперь с легкой руки Ю. Трифонова «домом на набережной», был уже наполовину опустошен арестами. Нас переселили туда из Кремля спустя два месяца после ареста Н. И. в очередную освободившуюся все по той же причине квартиру. Первый присланный счет за квартиру оплатить было нечем. Никаких сбережений Н. И. никогда не имел. Гонорар за свои литературные труды он перечислял в фонд партии, от зарплаты ответственного редактора «Известий» отказался. Получал деньги лишь в Академии наук СССР, действительным членом которой он был. Дом правительства находился в ведении хозяйственного отдела ЦИКа, и я написала маленькую записочку Калинину: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита — Николая Ивановича Бухарина, платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет». Следующий прислан не был.
Как я уже упоминала, мы жили вместе: первая жена Н. И. Надежда Михайловна, его отец Иван Гаврилович, я и ребенок. Старик отец, математик (до революции — преподаватель женской гимназии), потрясенный арестом сына, обессиленный тревогой за его дальнейшую судьбу, в те дни часто повторял одни и те же слова: «Николай — моя гордость!
Что же это случилось, не могу понять?! Мой Колька — предатель?! Это же вздор!» Затем, чтобы отвлечься, он решал задачи, часами сидя за столом, заполняя один лист за другим алгебраическими формулами. Будто пытался извлечь «корень зла» и спасти погибающего сына. Все происходящее оставалось за пределами его понимания. Иван Гаврилович намеревался написать Сталину. Возможно, он это и сделал. И временами были у старика проблески надежды, что вернется Николай, — ведь сам Сталин ценил его так высоко. «Разберутся, не может быть, чтобы не вернулся», — утешал он себя и старался обнадежить меня.
В тяжкие месяцы после начала следствия с нами жила и няня Паша — Прасковья Ивановна Иванова. Я находилась почти неотлучно возле Н. И., а Прасковья Ивановна ухаживала за ребенком. Она знала меня с детства, вырастила моего двоюродного брата, сына моей тетки, которая в течение 8 лет воспитывала потом моего Юру. Прасковья Ивановна стала для нас родным человеком. Когда случилась беда, она по моей просьбе без колебаний оставила работу и помогала нам безвозмездно — платить было нечем. После моей высылки она вместе с Юрой жила у моей матери до ее ареста, т. е. до января 1938 года, когда сына забрали в детский дом, несмотря на просьбу няни оставить ей ребенка, к которому она была привязана. Прасковья Ивановна участвовала в поисках Юры, стала первой, увидевшей его, полуживого, в детском приемнике. Она же, предъявив письмо Ивана Гавриловича, буквально вырвала больного мальчика оттуда.
Но все это было позже. А в июне 1937 года, то есть через три месяца после ареста Н. И., однажды, когда я сидела у постели Надежды Михайловны, а Иван Гаврилович все решал свои задачи, раздался звонок в дверь. «Это за мной», — сказала Надежда Михайловна и протянула руку к ящику ночного столика, чтобы взять приготовленный на случай ареста яд, а я пошла открывать. У нас уже давно никто не бывал, кроме моей старой бабушки, да и та предварительно звонила по телефону. Мать поддерживала нас материально, но по обоюдной договоренности мы друг к другу не ходили. Я берегла ее. И вдруг — звонок в дверь. Вошел человек в форме НКВД с кожаной сумкой в руке.
— Как бы повидать Анну Михайловну, — произнес он подчеркнуто вежливо, — по-видимому, это вы?
Я подтвердила.
— Предъявите паспорт, — сказал он, пройдя в комнату.
— Зачем же паспорт, разве на слово вы мне не верите? — спросила я, еще ничего не подозревая.
— Почему же, верю, верю, но такова формальность, я должен проверить это документально.
Я заволновалась, почему-то решила, что мне сообщат что-то страшное о Н. И. — скорее всего, он не выдержал мучений и скончался. У меня тряслись от волнения руки, когда я протянула паспорт. Он положил мой документ в сумку (больше я его не видела) и вытащил небольшую бумажку — первое постановление обо мне, подписанное Ежовым.