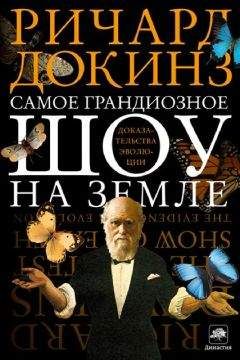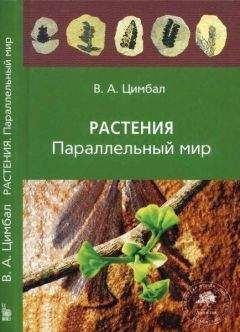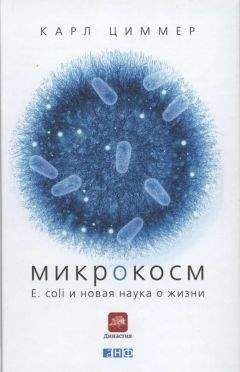Елена Макарова - Фридл
К Рождеству мы все привели в порядок. Часть картин в кладовку не поместилась, и Павел испросил позволения повесить на стены виды Праги: Влтаву сквозь балкон с длинным поручнем и маленьким человечком вдалеке, вид с балкона из первой квартиры, с будкой стрелочника, но этого ему показалось мало, и он притащил еще десяток картин. Я промолчала, с ним сейчас лучше не спорить.
На новоселье Павел пригласил своего школьного друга с женой. Оба – художники! Сюрприз! Эмиль Тылш, высокий, узкоплечий и плешеватый, а Анна маленькая, широкоплечая, с тяжелой русой косой. Эмиль работает в типографии печатником, принес в подарок набор открыток – репродукции знаменитого чешского художника Яна Зрзави. Отличная печать. Анна думала подарить мне свою маленькую картинку с видом Находской площади, но постеснялась. Она слышала, что я известная художница из Вены. Что училась в Баухаузе. От кого слышала – от Эмиля. А он от кого? Павел рассказал. Так распространяется слава…
«Для нас было большим событием знакомство с Фридл. Мы пришли в гости, это было в их первом по счету доме. Окна выходили на вокзал, и, увидев приближающийся поезд, можно было выскочить из дому и успеть на него.
Фридл была маленькая, как ребенок, с большущими глазами. Она так нам обрадовалась. Мы прошли в комнату, и комната эта зачаровала меня. Я никогда не видела ничего подобного. Мебель очень современная, очень компактная, все одного габарита. Она легко складывалась и не доставляла больших хлопот при переездах. Как объяснила Фридл, мебель из ателье, Зингер ее придумал, а она оформила. Уникальный дизайн. Стулья как ящички, можно было сидеть на любой высоте, это как-то просто регулировалось. Там было много картин, ее и ее друзей. Оазис покоя…»
Ни одной чужой картины у нас не было! Все мои.
«У них всегда было много гостей, мы составляли столы в длину. Тогда, в первый раз, меня все потрясло, и Фридл, и обстановка – это было нечто целое. В темное, зловещее время она была полна энергии, мудрости, дружелюбия. Она всех вдохновляла, всех – и простых людей, и художников.
У них постоянно замыкало электричество… Она столько рисовала! Даже когда готовила обед, рисовала из окна».
Анна Сладкова забегает вперед. Мы еще только обосновались на улице Моравского Братства, и я слышать не желаю о предстоящих переездах. Про электричество – точно! Но мы обзавелись свечами и выглядели точно как те двое на открытке Яна Зрзави: за столом в полутьме, посередине свечка. Только у него все нарочито вытянутое – и фигуры, и лица, и высокие спинки стула, – а у нас покруглей, поприземистей.
В провинции другое ощущение времени. Сезонное. Осенью с близлежащих полей несет навозом, шумят трактора, ездят телеги, груженные сеном. Зимой все погружается в белое безмолвие.
2. Важное и неважное
7 января 1939 года.
Дорогая моя Юдит! Я сижу у двух свечек, тепло, печка поет свои долгие песни. После сотой поломки отопительных труб, когда для обогрева осталась лишь печка, произошло сотое короткое замыкание. Вопреки всему, нужно уяснить, что для тебя важнее, и идти на компромисс, «покупая» вместе с «приятностями» и теневые моменты этой в целом приемлемой ситуации. Эта жизнь, с ее покоем, куда милее, чем Прага и шум. Будь благословен Гронов. Когда взвешиваешь, как важное относится к неважному, когда «покупаешь» небессмысленно, нечего так уж и привередничать, в этом все и дело, в конце концов.
Я сейчас уткнулась в маленькую картину – пятнышко коричневатых елок – и рисую ее из окна. Все возникло из коричневатого пятнышка, которое резко обозначилось на фоне розового и голубого отсвета снега (розовый стелется по горизонтали, голубоватый – под углом, а темно-синий – стоймя, вертикально уходит в глубокую тень), – деревья такие темные, и потому все за ними выглядит необычайно нежно, а синева вдали еще резче подчеркивает фиолетовую коричневатость… Но это не выглядит скучно, поскольку коричневый – рядом с фиолетовым, и дымовые трубы того же цвета, только еще более интенсивного, – и эти торчки не выпадают из картины, знаешь почему? А потому, что светло-коричневое и очень элегантное знамя дыма связывает их с вершиной холма, что напротив. Дым разрезает небо светло-серой полосой – и это как противовес снегу на первом плане… И так я рисую и рисую, вздыхая все чаще, думая о том маленьком мерцающем пятнышке, – но где же оно, куда запропастилось? Его нет…
Теперь попробую изобразить тебе мою здешнюю жизнь. Я постоянно в Гронове, оттого не видела маму Ирену уже 6–8 недель.
Устроилась, все отштукатурила. Убираю картиру, готовлю еду; вначале мои блюда выглядели так же (разумеется, только мучные), как те ваши, в «Бонде», от которых ты плевалась! Но я совершенствуюсь.
Ты не представляешь, сколько здесь всего происходит! А когда ничего не происходит, то все равно что-то случается, например, от меня удирает такса по имени Пегги. Она сейчас сосредоточена на поисках жениха; я, с половником или с чем попало, что у меня в эту секунду оказывается в руке, на ходу влетаю в сапоги и несусь в малознакомый лес, после чего пробегаю полгорода, свистя и вопя «Пегги»! А та бежит за колесами велосипедов, совершает променад по городу, ищет…
…И я опять усаживаюсь рисовать, пока не стемнеет. Ко мне ходит в гости крошечный восьмидесятилетний старичок, из бывших рабочих. На нем голубая блуза, заштопанная, но чистенькая. Он беден и вынужден просить милостыню (фактически он получает 1 крону в день). И вот он сидит у меня, что-то бормочет беззубо… Когда он думает, что я его рисую, он подбирает отвисшую губу, приосанивается. Такое симпатичное лицо! С огромными темнокожими ушами и фиалковыми глазами. От раза к разу он выглядит все «приличнее», в последний раз, о ужас, он пришел в стоящем колом белом воротничке и галстуке с защелкой, к тому же подстриженный и гладко выбритый. Он у меня выпивает кофе или рюмочку водки и рассказывает о своих невзгодах, этого ему не занимать. Боже, когда я буду такой старой, я, наверное, и ползать-то не смогу, превращусь в совершенную маразматичку… Еще я учу чешский, при этом не особенно ломаю себе голову, – так что и успехи, увы, соответствующие. Иногда мы ходим гулять, и это так прекрасно, еще мы катались на лыжах при луне. Пегги похрустывает снежком, а мы идем тараканьим шагом сквозь тихий лес и великое безмолвие.
Хватит. Пора сказать Юдит то, ради чего я затевала это письмо.
Когда мне было столько, сколько тебе (12), конфликт между моими родителями обострился до предела. Жизнь дома становилась все более изнуряющей и мрачной; не сумев этого выдержать, я в 16 лет ушла из дома. …Мама так хотела, чтобы я осталась, я приняла ее сторону и всегда была готова ее защищать. Многие годы я злилась на отца. И очень зря. Родители поневоле втягивают детей в конфликт, но, кроме них самих, никто его разрешить не может.
2 марта 1939 года, Гронов.
Дорогая Аничка!
Здесь спокойно. Все в глубоком снегу. Вчера началась весна. У меня резко упало зрение. Я настолько плохо вижу, что даже не знаю, как выглядит пейзаж. Но каждый день я слышу поющих птиц. Это неописуемо… Когда я в семь утра иду в булочную, я слышу кудахтанье и квохтанье в птичнике. Это так связано с детством, каникулами, счастьем и свободой. Слушая кукареканье петуха, я бы и в свой смертный час не поверила, что происходит что-то злое… Эта здешняя жизнь, в ее малости и красоте, мне точно по силам. Она вызволила меня из тысячи смертей – живописью, которой я прилежно и серьезно занималась, словно бы я искупила вину, так и не поняв, в чем, собственно, она состоит.
Я понимаю, все это от моей неспособности бороться со злом напрямую, теоретически ясно, что нужно бороться, нельзя быть такой пассивной. Будь у меня ребенок, я была бы побоевитей, я бы положилась на него, он бы исправил мои просчеты, он был бы лучше меня. Но близкие друзья еще способны меня терпеть, они-то меня и поддерживают. Как раствор или камень, я принадлежу маленькому зданию жизни, мне тепло и уютно в этом строении.
Слушать кукареканье петуха… А поступь солдатских сапог?
15 марта 1939 года в «великое безмолвие» вступает армия Гитлера. Страшный сон, от которого невозможно пробудиться. И нужно понять, что нет больше страны «Чехословакия», есть «Протекторат Богемии и Моравии» и Словакия. Бежать без оглядки, успеть на последний поезд, последний пароход.
Георг Айслер не может понять, почему я не уехала в Англию по приглашению Пауля Венграфа, с которым мы были знакомы еще по Вене. Тем более что в его лондонской галерее «Аркадия» готовилась моя выставка и мне было бы несложно получить статус беженки.
«Почему она не уехала?! В этой деревне она была обречена».
Но я и в Палестину не уехала. Я ждала лета, чтобы нарисовать то поле с пшеницей, в полнолуние.
3. Красивые виды