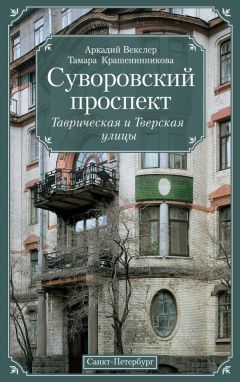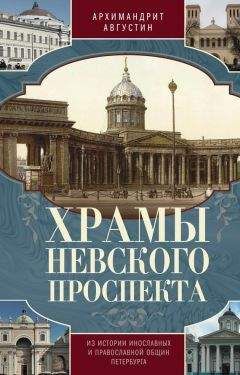Александр Николюкин - Розанов
Прошел он, высоко неся голову, как какой-нибудь фельдмаршал, и ни на кого не обращая даже малейшего внимания, хотя он видел, что все перед ним встали. За ним в страхе бежали 3–4 сторожа или вообще «мелочь»: писаря, секретари.
Как прошел, все сели. Потом стали вызывать по очереди. Когда очередь дошла до Василия Васильевича, то и он «потащился». В огромном зале за какой-то конторкой, на возвышении в четверть аршина, стоял «он». В военном сюртуке и с какими-то нашивками на обшлагах.
— Студент историко-филологического факультета 3-го курса…
Молчит.
— Потерял паспорт…
— Прошение?
Василий Васильевич подал. В руках «фельдфебеля» был огромный, почти аршинный, и очень толстый карандаш. Он ткнул «красным» в бумагу и положил ее на кипу таких же. Все было кончено. Василий Васильевич вышел, выслушав: «В среду».
И вот пришла среда, но за это время произошло «1-ое марта» — убийство Александра II. И вот в среду так же все «встали» при проходе «его», и он прошел так же, никого не замечая.
Так же ли? «Во мне дрожало сердце. О, как оно трепетало, и „пытало“ современное и будущее. Смысл 1-го марта я понимал (гимназист-нигилистишко). Но я был созерцатель.
До „политики“ мне было „все равно“, но я пытал (мысленно) сердце человеческое и ту неизмеримую „отважность“, которая откуда-то взялась и выросла сравнительно с этой здесь разлитой робостью перед повытчиком.
— Есть же, которые никто ничего не боятся.
— А мы так зависим от этого повытчика, сущность которого только в том, что он держит огромный красный карандаш»[206].
Условия жизни в ту эпоху России получили отражение в «Сумерках просвещения», за что Розанова могли тогда как угодно наказать и если ничего не сделали, то лишь потому, что «теперешнее положение» — учительство около свиней и волков — представляло собой то естественное наказание, больше которого тогда нельзя было придумать.
Пять лет в Брянске, четыре года в Ельце и снова целых два года в Белом: «Отчего вы сходили тогда не с червей: взяли бы ремиз». — «Так пришли бубны, король и дама?» — «А слышали, та замужняя сошлась с почтмейстером». — «А та барышня уже стара». — «Будет ревизия?» — «Нет, ревизии не будет»[207].
Глушь, однако, была не только в провинции, в Брянске или Белом, но и в Москве тех лет, когда Розанов учился в университете. В одном из писем Страхову (31 марта 1888 года) он рассказывал: «Во времена Декарта вывешивали на улице предложения решить ту или иную задачу по геометрии, как мы вывешиваем афиши. Какая любознательность, какие прекрасные интересы в массе общества! А у нас купили в Москве ученую свинью в цирке за 2000 р. и съели (лет 5 назад). Доживем ли мы (т. е. Россия) когда-нибудь до истинной наблюдательности, до истинной человечности?» Этот вопрос стоял перед Василием Васильевичем всю жизнь[208].
Глава пятая В ПЕТЕРБУРГЕ
В гимназические годы Москва, а теперь Петербург рисовался в воображении Василия Васильевича как то, куда вечно стремятся помыслы пишущего, литературно одаренного русского человека. Петербург сулил новое, неизведанное, как за два века перед тем для Петра Великого. И может быть, не случайно свой рассказ о жизни в Петербурге Розанов начал с зарисовки основателя города: «Петр вылетел гоголем на взморье, думал: корабли, торговля. Шумел. Печатал. Бил. Больно бил. „Вечно испугались“. Но до времени и в частности на минуту. На взморье Русь „уселась“» [209].
Может, и остался бы Василий Васильевич провинциальным учителем, пописывающим в столичных журналах, если бы стараниями Н. Н. Страхова и С. А. Рачинского он не получил места чиновника Государственного контроля в Петербурге. Шесть лет этой службы, сказал однажды Розанов, оставили тяжелое впечатление «крайней материальной стесненности», подобно которой он никогда в жизни не переживал.
Только однажды и на короткий срок попал Розанов в подобную же ситуацию. Месяц спустя после свадьбы, будучи в Москве, Василий Васильевич с женой хотели приехать в Оптину Пустынь и повидаться с К. Н. Леонтьевым. Но от «неопытности и дороговизны», как рассказывает Розанов, так растратились, что выезжать с оставшимися 20–30 рублями не решились. Посещая же на прощанье Воробьевы Горы, вдруг нашли дачу за 30 рублей за лето (причем в задаток можно было дать лишь 3 рубля) и с радостью на нее переехали из дорогой гостиницы и от дорогих обедов в разных гостиницах. «Итак, ужас финансового кризиса заставил нас вместо Оптиной Пустыни бежать сюда, в милый и чистенький домик богомольных и трудолюбивых липован» [210]. Но то была всего лишь летняя идиллия на Воробьевых Горах, когда «с милой рай и в шалаше».
В апреле 1893 года Василий Васильевич с женой и полугодовалой дочерью Надей (умершей осенью того же года) поселился на первом этаже дома на углу Павловской и Большого проспекта Петербургской стороны. Выше этажом жил писатель-публицист Иван Федорович Романов (псевдоним Р-цы) с женой Ольгой Ивановной. Семьи вскоре сблизились.
Дом стоит до сих пор. Жильцы нынешней коммунальной пятикомнатной квартиры, которую когда-то занимала семья Василия Васильевича, и не подозревают о существовании писателя и философа Розанова, проведшего здесь первые, самые трудные годы своей петербургской жизни. В провинции он получал 150 рублей в месяц, здесь же — 100.
Варвара Дмитриевна мучилась, потеряла сон и чуть не начала мешаться в уме, когда при столичной дороговизне должна была кормить семью на 100 рублей, при больной и вскоре умершей дочери. Постепенно она все свои вещи снесла в ломбард, и уже ничего больше не было, не из чего было платить за стирку, платить зеленщику и мяснику, не говоря об одежде, о которой и думать было нечего. Лишь после смерти первой дочери начальство прибавило 25 рублей в месяц.
Василий Васильевич вспоминает одну из «острых минут», каких бывало немало в те годы. Однажды он отправился к Страхову. Стояла студеная зима, и он видел, как извозчики старательно укутывали попонами и чем-то похожим на ковры своих лошадей. Вид толстой ковровой ткани, тепло укутывавшей лошадь, произвел на него впечатление.
То же наблюдал он каждое утро, отправляясь в Государственный контроль, находившийся на Мойке вблизи Синего моста: он направо в Контроль, она — налево в зеленную и мясную лавку. «И зрительно было это: жена — в меховой, но короткой, до колен, кофте. И вот, увидев этих „холено“ закутываемых лошадей, у меня пронеслось в мысли: „Лошадь извозчик теплее укутывает, чем я свою Варю“… такую нежную, никогда не жалующуюся, никогда ничего не просящую. Это сравнение судьбы лошади и женщины и судьбы извозчика и „все-таки философа“ („О понимании“) переполнило меня в силу возможно гневной (т. е. она может быть гневною, хотя вообще не гневна) души таким гневом „на все“, „все равно — на что“, — что… Можно поставить только многоточие. Все статьи тех лет и, может быть, и письма тех лет и были написаны под давлением единственно этого пробуждения гнева, — очень мало, в сущности, относимого к тем предметам, темам, лицам, о которых или против которых я писал. Я считаю все эти годы в литературном отношении испорченными»[211] .