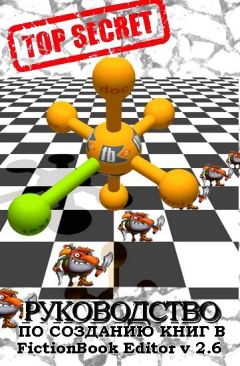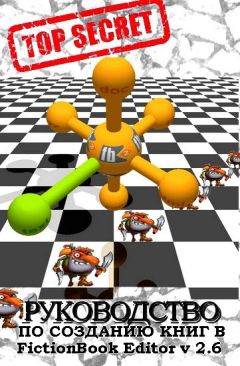Сергей Волконский - Мои воспоминания. Часть первая. Лавры
Помню, как некоторые люди совсем не могли, не хотели примириться с этой стороной; приезжали как на «спектакль». «Помилуйте, какой ужасный оркестр!» — «Ну как не стыдно, ни одной настоящей танцовщицы!» — «Ну что такое, опера — и без костюмов!» Люди приходили туда со старыми ожиданиями — проволок, полетов, бенгальских огней; были такие, что и после представления не могли сдвинуться с обычной точки зрения, и одна наша соотечественница спросила русскую ученицу: «Сколько Далькроз платит вам за выход?» Бывают вопросы, способные раскрывать пропасти между людьми… Кажется, самое трудное для обывателя — стать на новую точку зрения. Нужно известного рода мужество, нужна известная степень отвлечения для того, чтобы уметь видеть новое и видеть в новом нечто большее, чем отсутствие старого. Обыватель любит насиженное место; когда его отведут от этого места и покажут новый горизонт, он, вместо того чтобы смотреть вперед, оборачивается и спрашивает: «А где мое насиженное место?»
На художественную сторону хеллерауских спектаклей надо смотреть с совсем особого угла зрения. Далькроз как будто говорит: «У меня оркестра нет, так, собран кой-какой; солистов нет, хор мой тоже не „хор“, это ученики, проходившие сольфеджио, — не хористы, но зато музыканты; да, музыканты, такие музыканты, что ни один „солист“ с ними не сравняется; сцены у меня нет, декораций не хочу — я хочу музыку и человека; чтобы дать ему все средства внешней выразительности, я поставлю человека на лестницах, а в спутники его движениям и в спутники музыке, со всеми ее оттенками усиления и ослабления, я дам свет, тоже с оттенками усиления и ослабления. Вот мои средства. Мало? А что же вы, у которых солисты, и солистки, и балерины, и хористы? Дайте больше, коли у вас так много». Вот что делает Далькроз; вот смысл этих примеров применения ритмического принципа к художественным задачам. Кто же бы это делал, если бы не он? Кто дает и на какой сцене сочетанье пенья с ритмической пластикой? Только он может показать, только он может раскрыть глаза: «Придите посмотрите», — говорит он. И надо было идти и смотреть, потому что ни на одной сцене того нельзя видеть, что можно было видеть там.
Расскажу про постановку «Орфея», но сперва опишу нечто, что не могу сравнить ни с чем прежде виденным. Несколько групп стоят отдельными кружками на коленях, головами вместе; под музыку одна из групп со слабым пением, держась за руки, подымается; вытягиваются тела, вытягиваются руки кверху, и в это время пение громче. Вся группа в последней степени напряжения, с поднятыми руками, в пояснице перегибается назад — как корзина раскрывается круг гибких тел. В момент наивысшего напряжения аккорд меняется, и под диминуэндо нового аккорда совершается обратное движение, корзина смыкается, колени подгибаются, спины закругляются — опять все на коленях. Цветок людской поднялся, раскрылся, вздохнул, закрылся. Таких «цветков» пять; они раскрываются по очереди: по очереди «дышат» музыкальные, «цветы», понемногу аккорды сближаются, «цветы» поднимаются чаще, конечный аккорд одного служит начальным для другого, и, наконец, все пять «цветов» поднимаются одновременно и одновременно раскрываются в одном общем аккорде, в одном общем гимне жизни и свету. Свету, потому что свет все время сопутствует нарастаниям и ослаблениям звука. И если восхитительно это слияние светового динамизма с динамизмом музыкальным, то ни с чем не сравнимо его слияние с нарастаниями и падениями душевных настроений: картины гнета, страдания, ужаса, уходящие в мрак, и картины радости, восторга, торжества, расцветающие в светозарности… Из всего, что я видел на хеллерауских торжествах, хочу здесь описать представление глюковского «Орфея», как он был поставлен там в августе 1913 года. Выписываю свое же описание из моей книги «Отклики театра».
Кому случалось присутствовать на уроках ритмической гимнастики, тот, конечно, не может представить себе, какой результат дает применение далькрозовского принципа к сценическому искусству. «Что же, будут по сцене ходить и отбивать: раз, два, три, четыре?» Так спрашивает обычный скептик. Нужно большое проникновение в сокрытую сторону явлений, чтобы угадать и предвидеть все художественные возможности, которые заложены в этих на вид столь однообразных и иногда сухих упражнениях. Не всякому дано умение предвидеть, и тем более ценно, что Хеллерау дал нам возможность увидеть: далькрозовская постановка глюковского «Орфея» на минувших празднествах — это художественный урок, открывающий путь к новым формам сценического искусства. Да не только к новым — к единственной форме оперного искусства.
Очень трудно дать понятие об особенностях этого удивительного представления. Сказать, что есть моменты, в которых с наибольшей яркостью выразился принцип нового отношения к оперным задачам, нельзя. Весь спектакль проникнут, насквозь проникнут совершенно особым, ни на одной сцене еще не проявившимся духом. В чем он состоит? Прежде всего, конечно, в том, что все это ученики одного учителя, единого руководителя, что каждый из них чувствует себя не только участником, но и творцом, созидателем нового — для всех других нового, а для себя дорогого начинания. Это, понятно, та сторона дела, которая наименее поддается подражанию и воспроизведению. Это непосредственная эманация Жака, это результат того духа «пионерства», который оживляет каждого участника до последнего (включая и плотника, и осветителя, и даже сторожей, во время денной уборки насвистывающих дорогие всем мотивы). Все это нельзя ни приобрести, ни воспроизвести; этому даже нельзя завидовать, это как счастие семьи — перед этим можно только благоговеть; как звезды — им можно только радоваться.
Оставим же эту сторону вопроса, недосягаемую, не поддающуюся подражанию. Ведь ни один директор театра не будет Жаком, ну хотя бы по той простой причине, что открытие сделать можно только один раз. Вторичных открытий не бывает. Но можно и должно открытиями другого человека уметь пользоваться.
Говорить о самом открытии Далькроза на этих страницах не приходится. Всякий интересующийся вопросом знает, что такое в своем практическом осуществлении принцип подчинения движения музыке и передача звуковых длительностей в длительностях пластического движения. Посмотрим же, в чем то новое, что дало нам это удивительное представление, в чем урок далькрозовского «Орфея».
Более всего удивительно во всем этом то, что самое сильное из всех оперно-драматических впечатлений, когда-либо испытанных, дано вам не певцами-артистами, а учениками, и даже учениками, которые учились не пению, а лишь сольфеджио. Как выразился один французский критик, — то, что мы там видели, так же отдалено от «театра» в обычном смысле слова, «как правда от лжи». Это сильно сказано, это может быть обидно многим, но чем обижаться, лучше подумайте, что бы это было, если бы вместо учеников были настоящие артисты с настоящими голосами. Только вот оказались ли бы настоящие артисты способны на такое полное забвение, не скажу — себя, не скажу даже — публики, а на такое полное забвение того, что это представление. Все это была истинная жизнь, жизнь в музыке и с музыкой; но чем это достигнуто? Согласием движения со звуком; никакими распадениями своего «чувства», никакими потугами к переживанию, а истинным переживанием, являющимся неизбежным, естественным следствием совпадения со звуком. Отсутствие в каждом отдельном исполнителе всякого старания о красоте, отсутствие всякой заботы о впечатлении — вот чем достигнуты и красота и впечатление. В течение трех действий ни разу вы не имеете такого ощущения, что перед вами «изображают»: перед вами настоящая жизнь, превращенная в музыку, и великолепная музыка, ставшая жизнью. И не может быть иначе, когда все, до последнего исполнителя, насквозь проникнуты музыкой; они обладают музыкой, как бы сказать, зараз и физически и психически, музыка такой же принцип жизни для них, как движение, как дыхание. Впечатление внутренней красоты, от этого исходящее, неописуемо. Но главное впечатление — естественности; вы забываете, что это искусство самое условное (конвенциональное) из всех искусств, опера, то, в которое труднее всего «поверить», превращено в нечто такое простое, естественное, что оно кажется не творением людей, а самою жизнью, но только такою жизнью, какую мы еще не видели, возможности которой не предполагали и которая, однако, близка нам как прекрасное цветение нашей же природы, нашего же собственного «я».