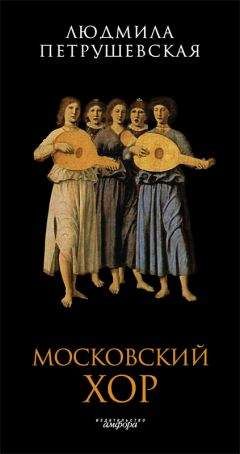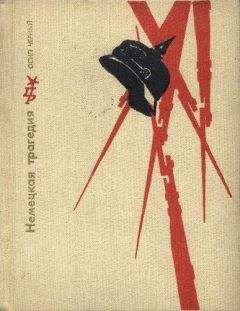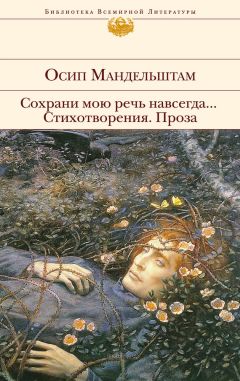Осип Черный - Мусоргский
– О-о, теплая, хорошо! Это очень хорошо!
Потом справился, как здесь кормят, и неожиданно улыбнулся:
– Я помню, как меня тогда потчевали в Москве. Это было необыкновенно. Желудочные боли продолжались у меня потом почти две недели.
Впервые он засмеялся. Это был живой, естественный смех человека, любящего жизнь и находящего в ней радости.
Когда Стасов попробовал заинтересовать его петербургскими новостями, музыкальной жизнью русской столицы, Берлиоз, как будто защищаясь, закрылся руками:
– Нет-нет, друзья мои, с этим покончено! Я так жестоко наказан моей милой родиной, меня так за каждую смелость мою избивали, что больше я не борец.
Стасов осторожно заметил, что от него тут вовсе не ждут борьбы:
– Вернее было бы сказать, что нам пришлось выдержать борьбу, чтобы получить право видеть вас. здесь.
– Мне жаль, господа, – холодно заметил Берлиоз.
Тут появился Кюи, и разговор принял иное направление. Кюи владел французским еще более свободно, чем Стасов, и разговор стал легче и проще. Стасов изредка вставлял несколько слов, а Балакирев вовсе молчал.
В номер подали еду и вино. За едой Берлиоз оживился. Чокаясь со Стасовым, он взял его руку:
– Ах, господа, я чувствую себя очень старым! Это так грустно, что даже невозможно выразить. Я всегда любил жизнь, я ее пожирал, а теперь она доедает меня. Ну пусть, если ей это нравится.
Они ушли от него огорченные: это был не тот человек, которого балакиревцы мечтали увидеть. Это был совсем не тот артист, который рисовался им по его творениям: пылкий, неукротимый, фанатик мысли и чувства.
Кюи заговорил первый:
– Что же будет, господа? Вы провала завтра не опасаетесь?
– Может статься… Поглядим.
На завтра была назначена первая репетиция. Берлиоза привезли в Дворянское собрание. Он вошел в зал, поддерживаемый под руку Балакиревым, и, шаркая, прошел мимо пустых рядов. Подойдя вплотную к эстраде, он остановился. Оркестранты сидели уже на местах. При виде его они начали стучать смычками по декам и кричать: «Да здравствует господин Берлиоз!»
Он стоял, сгорбленный, с опущенной головой.
– Я бесконечно тронут, – произнес он тихо, приложив руку к сердцу.
Затем взобрался медленно по ступенькам и при полном молчании подошел к пюпитру. Репетиция началась. Несколько человек, сидевших в зале, с замиранием сердца следили за тем, как поведет себя Берлиоз.
Он говорил тихо, так что почти ничего не было слышно в зале. Переводчик, один из музыкантов, передавал его замечания оркестру более внятно.
Первые минуты работа шла вяло, с остановками. Затем движения дирижера стали более определенными. Он словно ожил, и оркестр почувствовал его возродившуюся волю. Оживились все: и музыканты, и сам Берлиоз, и те несколько человек, которые сидели в огромном зале. Перед ними был артист, горячий, умный, пылкий и тонкий. Стоило ему бросить в оркестр шутку, а переводчику – перевести, как раздавался дружный ответный смех. Стоило, подняв руки, призвать к молчанию, как мгновенно водворялась тишина.
Берлиоз сбросил с себя груз годов, болезней, помолодел и с такой молодой настойчивостью стал работать, что воодушевление росло с каждой минутой.
Теперь уже Стасов и Кюи не переглядывались с опаской, не смотрели тревожно на хмурого Балакирева, взявшего на себя весь риск приглашения Берлиоза. Все, кто тут был, чувствовали, что это праздник искусства: вместо прошлогодней рутины в Дворянском собрании воцарился дух смелого творчества.
Репетировали вальс из «Фантастической симфонии». Вступление, где играют две арфы, автор начал широко и свободно; вальс, причудливо острый, полный изящества, за которым скрыта гроза неразрешившегося могучего столкновения, возникшего в первой части, Берлиоз проводил как творение истинно симфоническое, философское, полное могучих сил и больших идей.
С эстрады он, с острым, резко очерченным профилем и развевающимися седыми прядями, выглядел молодым, энергичным, уверенным в себе и в артистах.
Когда, пройдя с оркестром симфонию, Берлиоз наконец произнес: «Теперь, друзья мои, отдохнем, я вас совсем замучил», – в оркестре в ответ раздались шумные аплодисменты.
Он сошел по ступенькам гораздо легче, чем поднимался. Он прошел по залу не шаркая; в движениях его появилась упругость.
Подойдя к Балакиреву, Берлиоз не спросил, понравилась ли его друзьям репетиция. Как будто понимая их опасения и желая всех успокоить, он сказал, покачав головой:
– Ничего-ничего, кажется, сойдет все недурно, – и ласково положил руку на плечо Балакирева.
Но, когда репетиция кончилась, когда его отвезли в гостиницу, он опять превратился в человека со встревоженной душой, боящегося выходить за пределы узких своих интересов. Все, что говорил Стасов о молодых русских композиторах, о новой русской школе, Берлиоз воспринимал с каким-то пугливым вниманием.
– Да-да, – говорил он, – понимаю… Это примечательно, это прекрасно… Ваша страна обещает миру многое. Если бы у меня было больше сил и я не дрожал бы над своей никому не нужной жизнью!.. Я слаб, ужасно слаб… Тяжело признаваться в этом людям, уважением которых дорожишь. Но даже и этой роскоши признания я не могу позволить себе на родине.
Познакомиться с другими представителями балакиревского кружка он не пожелал, сославшись на напряжение, в котором проводил репетиции. Но к оркестру он теперь выходил подтянутый, строгий, полный желания работать.
Когда публика в первый раз увидела его, никому в голову не пришло, что на эстраде стоит человек измученный и страдающий. Гордый, даже величественный, Берлиоз дирижировал с вдохновением.
Концерты его проходили блестяще. Голоса тех, для кого музыка Берлиоза выглядела изломанной, странной, чересчур рациональной, потонули в общем признании. Могучим духом свободы веяло от его творений, они были пронизаны независимостью, строптивой жаждой освободить личность от оков мещанского общества.
Неудивительно поэтому, что с таким же или с еще большим увлечением Берлиоз продирижировал бетховенскими симфониями. В век реакции и гнета ему не с кем было больше общаться, кроме как с великим немецким строптивцем. Разглядеть в Петербурге, каких союзников он мог бы получить в лице композиторов новой русской школы, Берлиоз не сумел. Слишком он сузил мир своих интересов, живя на родине в одиночестве.
Уже собираясь уезжать, Берлиоз поднес Балакиреву свою дирижерскую палочку.
– Это все, что артист может дать другому артисту, – сказал он. – Я предложил бы вам виллы, дворцы, – увы, у меня нет ничего. Я вижу в вас благородные стремления и ощущал, живя в России, высокий полет идей. Позвольте пожелать вам и вашим друзьям сохранить его до конца дней. Вот пример человека, – он указал на себя, – который утратил былое горение и печально доживает свой век. Не Дай вам бог пережить это… – Он проницательно, долгим взглядом посмотрел на Балакирева. – В вашей стране, насколько я понял, живут художники, способные на подвиг для искусства. Передайте им мое глубокое уважение.