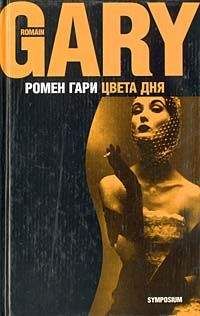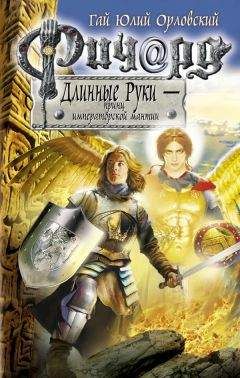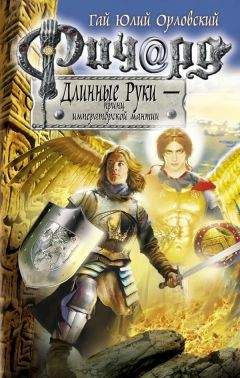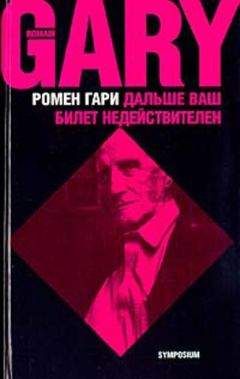Ромен Гари - Обещание на заре
Меня призвали 4 ноября 1938 года и направили в Салон-де-Прованс. Я сел в поезд с призывниками, среди толпы родителей и друзей, заполнивших вокзал, но только моя мать была вооружена трехцветным флагом, которым без конца размахивала, крича время от времени: «Да здравствует Франция!», что мне стоило недружелюбных или насмешливых взглядов. «Призывной контингент», к которому отнесли и меня, блистал отсутствием энтузиазма и глубоким убеждением (которое событиям 40-го года предстояло оправдать сполна), что его вынуждают участвовать в какой-то «дурацкой игре». Помню одного молодого новобранца, раздраженного ура-патриотическими изъявлениями моей матери, столь несовместными с доброй антимилитаристской традицией той поры, который пробурчал:
— Сразу видать, что не француженка.
Поскольку я и сам был утомлен и сильно раздражен безудержными излишествами старой дамы с трехцветным флагом, то был очень рад воспользоваться этим замечанием как предлогом и, чтобы немного успокоиться, от души врезал своему визави головой в нос. Потасовка тотчас же стала всеобщей, крики «фашист», «предатель», «долой армию» понеслись со всех сторон, тут поезд дернуло, флаг отчаянно затрепыхался на перроне, и я едва успел высунуться в окошко и помахать рукой, прежде чем снова решительно окунулся в свалку, случившуюся как нельзя более кстати, ибо она позволяла избежать прощания.
Молодые люди, прошедшие высшую военную подготовку, должны были сразу же после призыва направляться в аворскую авиационную школу. Меня продержали в Салон-де-Провансе около шести недель. На все мои вопросы офицеры и унтер-офицеры пожимали плечами: у них не было инструкций на мой счет. Я делал запрос за запросом по субординационной лестнице, начиная их все с «Имею честь просить вашего высокого соизволения…», как меня научили. Ничего. В конце концов один особенно порядочный офицер, лейтенант Барбье, заинтересовался моим случаем и присовокупил свое заявление к моим. Я был отправлен в аворскую школу, куда прибыл с месячным опозданием, при том, что общая длительность учебного курса составляла три с половиной месяца. Я не позволил себе унывать из-за опоздания, которое предстояло наверстывать. В конце концов, я там, где надо. Я взялся за учебу с рвением, которого сам от себя не ожидал, и, за исключением нескольких трудностей с теорией компаса, нагнал своих товарищей по другим предметам, правда без особого блеска, кроме собственно полетов и управления на взлетно-посадочном поле, где вдруг обнаружил у себя в голосе и жестах всю властность моей матери. Я был счастлив. Мне нравились самолеты, особенно самолеты уходящей эпохи, которые еще рассчитывали на человека, нуждались в нем, не были так обезличены, как сегодня, когда уже чувствуется, что беспилотный самолет — просто вопрос времени. Я любил эти долгие часы, которые мы проводили на аэродроме, облаченные в свои кожаные комбинезоны, куда залезали с превеликим трудом. Шлепая по аворской грязи, затянутые в кожу, в шлемах и перчатках, с летными очками на лбу, мы карабкались в кабины наших славных «Потезов-25» с их статью тяжеловозов и добрым запахом масла, ностальгическую память о котором я до сих пор храню в своих ноздрях. Представьте себе курсанта, наполовину торчащего наружу из открытой кабины драндулета, летящего на ста двадцати в час, или пилота биплана «Лео-20», запускавшего его вручную, стоя на носу, пока длинные черные крылья бьют по воздуху со всей грацией престарелой божьей коровки, и вы поймете, что за год до «Мессершмитта-110» и за восемнадцать месяцев до битвы за Англию диплом летчика-наблюдателя надежно и эффективно готовил нас к войне 1914 года — с уже известным результатом.
Время в этих забавах прошло быстро, и мы приблизились наконец к великому дню распределения по гарнизонам, когда нам должны были торжественно объявить наши выпускные звания и место будущей службы.
Военный портной уже обошел казармы, и наши мундиры были готовы. Мать прислала мне, чтобы покрыть расходы на обмундирование, сумму в пятьсот франков, которую заняла у г-на Панталеони с рынка Буффа. Моей большой проблемой стала фуражка. Фуражку можно было заказать двух видов: с длинным козьрком и с коротким. Мне никак не удавалось выбрать. Длинный козырек придавал мне более залихватский вид, что очень ценилось, но короткий был больше к лицу. В конце концов я все-таки склонился к залихватскому. Еще, после тысячи бесплодных попыток, я выкроил себе маленькие усики, очень модные среди авиаторов, не забудьте еще золоченые крылышки на груди — вообще-то, на рынке можно было найти и получше, ничего не скажу, — но в целом я остался доволен собой.
Распределение по гарнизонам проходило в атмосфере радостного предвкушения. Названия вакантных частей писались на черной доске — Париж, Марракеш, Мекнес, Мезон-Бланш, Бискра… Каждый мог выбрать согласно своему выпускному званию. Первые в выпуске традиционно выбирали Марокко. Я пылко надеялся получить достаточно высокий чин и выбрать назначение на Юг, ближе к Ницце, чтобы красоваться под руку с матерью на Английском променаде и на рынке Буффа. Военно-воздушная база в Фаянсе больше всего подходила для моих намерений, и, по мере того как выпускники поднимались, чтобы высказать свое предпочтение, я обеспокоенно следил, не вычеркнул ли кто это название на доске.
У меня были неплохие шансы получить подходящее звание, поэтому я с доверием слушал капитана, выкликающего наши фамилии.
Десять фамилий, пятьдесят, семьдесят пять… Решительно, Фаянс собирался от меня ускользнуть.
Нас было всего двести девяносто курсантов. Я ждал. Сто двадцать фамилий, сто пятьдесят, двести… По-прежнему ничего. Грязные и тоскливые воздушные базы Севера приближались ко мне с пугающей быстротой. Это не блестяще, но, в конце концов, я не обязан открывать матери свой выпускной чин.
Двести пятьдесят, двести шестьдесят фамилий… Вдруг сердце оледенело от ужасного предчувствия. Я еще чувствую на своем виске каплю холодного пота… Нет, это не воспоминание: я только что вытер ее рукой, через двадцать лет. Рефлекс Павлова[94], наверное. Даже сегодня не могу подумать об этом жутком моменте без того, чтобы капля пота не выступила на виске.
Из почти трехсот курсантов-наблюдателей я оказался единственным, кого не произвели в офицеры.
Меня не произвели даже в сержанты, даже в старшие капралы, вопреки всем обычаям и правилам. Я был произведен всего лишь в капралы.
В последовавшие за гарнизонным распределением часы я барахтался в каком-то кошмаре, гнусном мареве. Я стоял на выходе, окруженный молчаливыми и потрясенными товарищами. Вся моя энергия уходила на то, чтобы держаться стоя, сохранить человеческое лицо, не рухнуть. Думаю даже, что я улыбался.