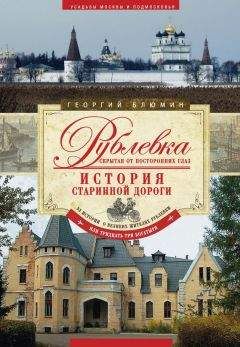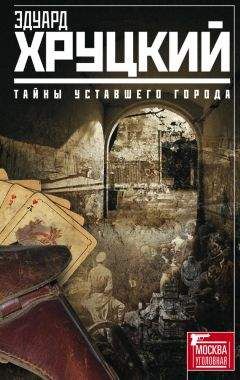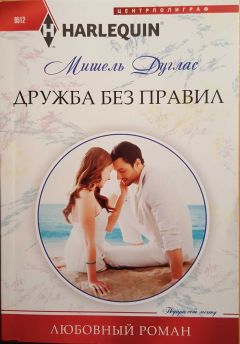Владимир Буданин - Кому вершить суд
— У меня простуда часто случается. С детства пошло — схватываю моментально.
Она пробыла у него до вечера. Сбегала в аптеку за лекарствами. Возвратившись, прибрала всю большую квартиру из четырех комнат. Затем стала кипятить молоко.
Но не успела поставить кастрюлю на плиту, как у входа позвонили. Она побежала открывать и услышала из-за двери мужской голос: интересовались адвокатом Красиковым. Немолодой господин в сером пальто с большими пуговицами почему-то сразу показался ей именно тем человеком, кого ожидал Петр Ананьевич.
Гость, должно быть, удивился, увидев Наташу, и уставился на нее обеспокоено и пристально. Затем усмехнулся в усы, снял шапку и пальто, размотал шарф, повесил все это на специальные крюки и спросил, где же сам хозяин.
— Он заболел, — объяснила Наташа. — Лежит. Вас я к нему впущу. Но вы не утомляйте его. Температура высокая.
— А вы кто, сиделка? — Незнакомец опять присмотрелся к ней изучающе. — Нет? Кто же? Отчего я вас не знаю.
— А зачем вам знать меня? — возразила она и смутилась — чересчур уж дерзко прозвучали ее слова. — Имя мое Наташа. Я Петра Ананьевича давно знаю. Пришла по делу, а он болеет. Вот и осталась.
— Это вы хорошо сделали. — Посетитель говорил с ней так, словно у него было право разрешать или не разрешать кому-либо присматривать за Петром Ананьевичем. — Если возможно, побудьте с ним, пока не поправится, — сказал он просительно и добавил с улыбкой: — Перед такой сиделкой ни одна хворь не устоит.
Затем он ушел в спальню, и они с Петром Ананьевичем проговорили там, закрывшись, ужасно долго. Откланялся гость лишь к вечеру, когда за окнами стала сгущаться послезакатная мгла. Наташа напоила больного горячим молоком, проветрила спальню, выбросила окурки и заторопилась. Дома уже, должно быть, тревожились.
— Пора мне, Петр Ананьевич, — сказала она, входя. — Поздно.
— Конечно, конечно. — Он оторвался от книги. — Даже не знаю, как и благодарить. Без вас я сегодня пропал бы.
Беспечно-веселая улыбка не скрыла грустного выражения его глаз. Наташа сердцем поняла, как ему не хочется оставаться одному в этой большой безлюдной квартире, как он вообще одинок. Поняла и вдруг сказала безразлично, как, бывало, сообщала Сане о подарке:
— Завтра у меня свободный от должности день. Ждите меня рано утром. Вас когда можно будить?
Петр Ананьевич проболел целую неделю. Наташа все эти дни была с ним. Оказалось, его кухарка Клавдия за день до того, как ему заболеть, отпросилась к себе в деревню помочь приготовиться к свадьбе младшей сестре. Так что приход Наташи был очень кстати.
А она всеми правдами и неправдами по утрам отпрашивалась у изумленного столоначальника и, втайне казнясь (в субботнюю получку нечего будет принести маме), неслась из банка на Шпалерную.
И была счастлива, видя, как Петр Ананьевич рад ее приходу.
А в воскресенье, перед тем как ей уйти, он посмотрел на нее изучающе и внезапно спросил:
— Вам сколько платят в банке, Наташа?
Она удивилась вопросу, но предугадала, что за ним кроется что-то чрезвычайно важное для нее, и, потупившись, ответила.
— Если я вам положу вдвое больше, — спросил Петр Ананьевич, по-прежнему внимательно глядя ей в глаза, — согласитесь работать у меня?
Щеки ее запылали. Но Наташа взяла себя в руки и деловым тоном поинтересовалась:
— Когда нужно выходить?
IVТелефон в углу брызнул резким звоном. Наташа вздрогнула, попала не по той клавише. Быстро взглянула на Петра Ананьевича, потупилась:
— Растяпа! Опять испортила…
Красиков нахмурился. В третий раз лист придется переписывать. Он красноречиво посмотрел на свою новую машинистку. На ее лице было такое смирение, такая безропотная готовность выслушать очередной выговор, что он смягчился и сказал менее строго, чем намеревался:
— Так мы с вами до полуночи не закончим.
— Закончим, Петр Ананьевич, закончим. Я постараюсь…
Телефон все звонил и звонил. Красиков сиял трубку.
— Алло! Слушаю!
Внизу, четырьмя этажами ниже, лежала Шпалерная, без единого деревца, с тротуаром из гранитных плит. Красиков увидел стайку гимназистов-старшеклассников, человек десять юношей и девушек. Юноши были в серой форме и фуражках с гербами, девушки — в коричневых платьях и белых передниках. «Завтра воскресенье», — подумал Петр Ананьевич и почему-то вдруг вспомнил, что в октябре, через месяц, ему исполнится сорок три года…
А юные гимназисты бегали вдогонку друг за другом, жестикулировали, смеялись. Но вот внезапно застыли. Гремя колесами по булыжнику, к Литейному ползла арестантская карета. На козлах около возницы восседал солдат с винтовкой стволом кверху. Второй конвоир стоял на подножке сзади. В оконце словно бы шевельнулась занавеска и показалось чье-то лицо…
— Петруша, Петруша, добрый вечер, — домогался его голос из трубки. Он узнал Николая Дмитриевича Соколова. — Простите великодушно, если отвлек от милых сердцу занятий. Но дело не терпит отлагательства.
— Какие там милые сердцу занятия? Диктую апелляцию по делу об увечье…
— Не скажите, не скажите, драгоценный. С того дня, как у вас на Шпалерной появилось эфирное создание по имени Наташа, я не осмеливаюсь без трепета отвлекать вас от занятий.
— Сейчас, Николай Дмитриевич, речь действительно о срочном деле?
— Милый Петруша, зачем же так недружелюбно? — Петр Ананьевич явственно вообразил обиженное лицо Соколова: закушенную нижнюю губу, беспомощно сощуренные глаза за пенсне. — Я ведь люблю вас и пекусь о вашем благе. Дело весьма срочное. Смею надеяться, вам будет любопытно узнать, что у меня в кабинете сидит господин Пешехонов. Знакомы вы с ним? Он вас помнит.
— Еще бы! Хотел бы забыть, да не забудет.
— Петруша, Петруша, — с упреком сказал Соколов. — Опять вы правосудие подменяете политикой. Вы, драгоценный, — адвокат, защитник. Люди обращаются к вам за помощью. Держите в узде свой большевистский темперамент. Алексей Васильевич просит принять на себя защиту некоего господина Трегубова. Обратился-то он ко мне, и я охотно принял бы его поручение. Но увы, у меня дело в Сенате, вы знаете. Я порекомендовал вас. Клиент согласился. Я бы даже сказал, ухватился. Как вы смотрите на это? Господин Пешехонов желал бы прямо от меня отправиться к вам на Шпалерную.
— Я готов принять его в понедельник, — сказал Красиков.
— Вы правы. Всего доброго, Петруша.
Красиков повесил трубку, дал «отбой», закурил. Опять Пешехонов! И в те давние времена, когда они пребывали в Пскове под негласным надзором полиции, Петр Ананьевич видел в Пешехонове не революционера, а барина, услаждающего душу свою «крамольными» речами о безысходной доле русского народа.