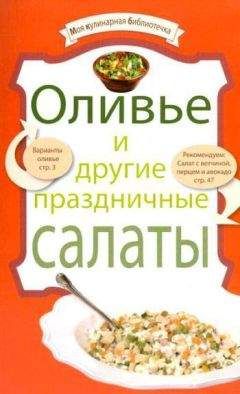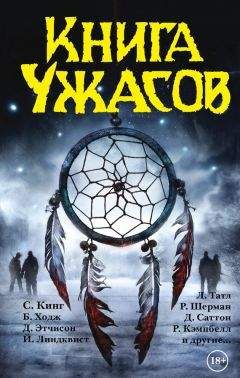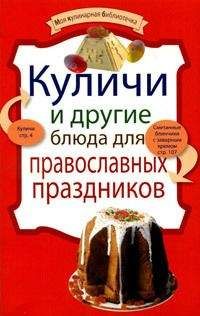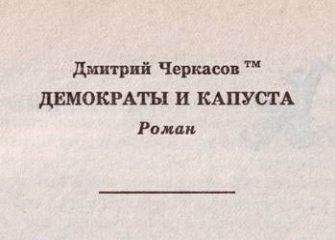Сергей Николаевич - Майя и другие
день седьмой
всего неделю спустя.
теперь я часто думаю, есть ли фатум и насколько он предрешен. написано на роду или просто так вышло, что человек прожил двадцать семь лет, а не семьдесят два, тридцать девять, не девяносто три.
можно как-то уберечь-уберечься или, что бы ни делал, все равно наступит утро, и первый в этом дне и последний в твоей жизни трамвай.
я не мучаюсь, думая об этом. я прямо и спокойно смотрю в монитор и анализирую, что с нами произошло.
мы бросили ольгу. фигурально и фактически. дуэта больше не было, я уехала в москву и приезжала в питер сначала часто, а потом только на концерты пару раз в год. ангел-хранитель остался за бортом и никому из нас, как мы думали, не был нужен.
чем она занималась? отвечу: воздухом. по-прежнему были сказки про учебу в университете, с каждым годом ольга не забывала прибавлять себе ученический год, по-преж-нему все реже, но писались стихи, начинались и останавливались на прологе поэмы, какие-то люди, какие-то несчастные любови, какие-то фильмы. по-прежнему не было денег. и, черт возьми, по-прежнему были вечерние планы барбаросса, которые цвели лихорадочным буйным цветом на ольгином языке; она фонтанировала, обещала, клялась, что завтра утром, непременно утром, но ЗАВТРА она начнет наконец эту самую настоящую жизнь. взаправдашнюю, великосветскую хайсэсаети-жизнь с бентли, страусиными перьями, непременно лошадьми и красивыми людьми в смокингах, а стул под ее грузной фигурой скрипел, пальцы с давно не стриженными ногтями держали вечную измятую сигарету, стены в лохмотьях побелки заливала ночь, а ольга заливала в себя уже не коньяк, а денатурат. утра же не было. утро ольга уже вообще не жаловала своим присутствием. вставала около пяти вечера, и никто не знал, почему она не умирает от голода, а как-то даже пухнет. на поминках я увидела людей, с которыми она дружила последние годы: у них были мутные вчерашние глаза людей без шансов. мы же – те, к кому она так преданно рванула и ради кого бросила все, чего достигла, – ее бросили. вероятно, все же я не верю в судьбу. согласись она тогда после концерта сесть в мое купе и уехать жить в москву, до сих пор была бы жива. я бы спасла ее. точно спасла. мне ничего не нужно было от нее. только бы она сидела в кресле-качалке и писала стихи, а позже нянчилась бы с моими детьми. я бы спасла ее. уверена.
день восьмой
в то утро и в тот момент, когда на нее в питере несся трамвай, я спала в москве и видела сон. меня окружило плотное кольцо ольгиных родственников; все они в безразмерных тельняшках, и все, перебивая друг друга, что-то мне говорят. я хочу выйти из их круга, они не выпускают, кольцо сжимается, и я рвусь, рвусь, рвусь и наконец вырываюсь. я проснулась и кубарем скатилась по лестнице на улицу. был солнечный октябрьский рассвет. меня дубасил озноб, и я долго сидела на крылечке со своим тогда еще маленьким сенбернаром и обнимала его за меховую шею. такого ужаса я не переживала после ни одного кошмарного сна. минут через сорок я вернулась в дом, выпила чаю и открыла книгу. я даже помню, что я читала, когда мне позвонили из питера…
день девятый. последний.
ольга! ольга! тоскую!
тоскую, тоскую, ольга!
кожей ботинка латаю
дыру из воска и бронзы.
ольга! ольга! мне тяжко!
не жизнь без тебя на болотах!
плевать, что ко мне безучастны
аборигены из сквотов.
ольга! из дома новость:
отец по делам ездил в Питер.
твой памятник будет в мае.
всех позовем. не обидим!
мариша стихов почитает,
запутается в окончаньях…
отец был красивый и ровный,
под веками прятал отчаянье.
ирмуля свой рост сокращала,
отцовы гладя запястья.
а он молоком топленым
молчал. разрывался на части.
ольга! ну как же так, ольга?!
не манна, не каша с брусникой!
давно не виделись!
здравствуй!
здравствуй, в небе индиго!
где угол? где угол? поставьте
меня на горох преступлений!
я выдержу все за возможность
друга увидеть колени!
осиновый кол в душу впился!
я вою под одеялом!
в трамвай как в поход на голгофу!
о господи! только не пьяной!
ольга, проснись! я тоскую!
ольга! я вечно рада
тебе приносить бульоны
и россыпи винограда!
и прятаться, плакать украдкой
где-то меж связок в гортани.
тоскую! тоскую! тоскую!
и легче, чем было, не станет.
Мария Голованивская
Укус софы
Рассказ писателя N
Девица одна, из дворянок, лет эдак пятнадцать назад рассказывала мне случай из ее детства, который чрезвычайно меня поразил. Чем, собственно? Разве мало видали мы душевных терзаний, в особенности со стороны детских, совсем еще не тронутых душ? Превеликое множество, и среди них такие, что содрогнешься безвозвратно. Но тут история особенная: растление происходило через предмет сугубо научного свойства в буквальном смысле этого слова. Слыхано ли дело, чтобы развращение постигало от занятия геометрией или естественной историей?
Давеча прочел я в “С.-Петербургских ведомостях” о необыкновенном научном успехе этой барышни, и с удивительной ясностью передо мной предстал тот вечер и тот рассказ. Свершения ее блистательны: Софью Корвин-Круковскую, ныне по мужу именуемую Ковалевской, избрали в Московское математическое общество, присвоили приват-доцента – первой, первой женщине во всей Европе. Но отсутствие робости и кротости в характере – еще не основание, чтобы вскочить в бурлящий котел человеческих страстей. СК жила и живет с ошпаренной душой, еще более неприкрытой и беззащитной, чем у иных тихонь.
Через полгода я сватался к Анне Васильевне, Софьиной старшей сестрице, да и глупо. Наскочил, не поразмыслив, и вообще, незачем было. Но не в том сейчас сюжет. В Соне. В яростности ее. Шел я тогда от их дома на Васильевском к себе на Малую Мещанскую – не ближний свет – и все перебирал, как четки, слова ее, все спрашивал себя, отчего так мутна моя душа, и вот только теперь понял.
Когда я познакомился с сестрами Анной и Софьей, Софе было семнадцать лет, а говорила она о дальнем детстве – своих двенадцати. Чистый с виду ангелок, но с коготками и с инфернальными страстишками. Откуда? – задался я вопросом при первом же взгляде на нее. Миловидна: круглое лицо, обрамленное парой витиеватых локонов, blonde, – но во взгляде виден излом и способность на дело.
Первый мой визит к ним прошел прескверно. Явился я для знакомства с Анной – ее старшей сестрой, та представила в “Эпоху” рассказ и повесть, очень недурно и живо написанные. Разговор шел натянуто, их maman не оставляла нас ни на минуту – сколь все же нелеп этот предрассудок, требующий постоянной и удушливой опеки о крайне условных и по сути никчемных politesses. От стесненности перед глазами моими почти все время скакали мушки, и я твердо решил уж больше не ходить к ним. Но по возвращении у меня случился криз, я пролежал четыре дня и намерение свое переменил: увеселения после сброшенной глыбы романа о преступлении прописаны мне со всей серьезностью ордонанса, доктор мой – толстый и седой Герценштубе, подергивая головой, повелел принимать “разгрузочные впечатления”, оттого я и подстегнул себя: отправился в ответ на вторичное приглашение как миленький.