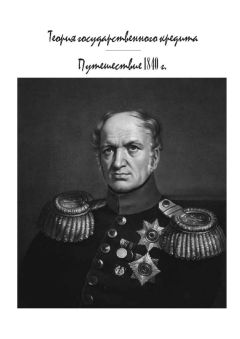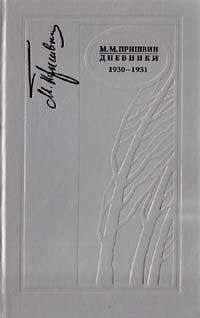Михаил Пришвин - Дневники 1920-1922
9 Февраля. Не могла издивиться своему счастью.
Деревья были разбросаны, как говорят: «Где куски, где милостыни».
Весь день простоял при — 6 Р, небо все серое, а снег не идет.
10 Февраля. — 9 Р. Иней сел. Небо, как вчера, серое. Пырхает и не осмеливается идти снег.
За всем неверием и хитроумностью людей скрывается наивная вера, и о ней не подозревают обыкновенно хитрецы (из себя, напр.: я ли не скептик был, «человек» и его «прогресс», а сам «В краю непуганых птиц» написал с Невским проспектом). Веру людей надо искать не в ученых книгах и у сектантов разных, а в их самой обыкновеннейшей жизни.
Качество мира создается индивидуальностью, а индивидуальность варится жизнью рода, а именно в сердце женщины избирающей: пусть родовые оковы заключают двух и пусть привычка еще крепче железа их связывает, все равно, там и тут прорывается тот подземный огонь избрания, выбора, свободы творчества индивидуальности.
Почему все эти бесчисленные романы? это опыты опускаются в подземные колодцы с фонарем: инстинкты при свете разума, для этого нужна способность «умеренного разума»: т. е. сохранять присутствие разума в пламени чувств и в то же время без помехи чувству (отдаваться).
Из Бергсона: след деятельности интеллекта — научные открытия, которые открывают новые орудия производства, это и остается, а память о войнах и революциях исчезает <1 нрзб.>. (Не отсюда ли происходит Марксова экономическая необходимость: т. е. наше сознание лишь постепенно и после привыкает к этим взрывам, совершаемым интеллектом, «надстраивается».)
Три расходящиеся течения жизни: растительное оцепенение, животный инстинкт и человеческий интеллект. (Животный мир всегда находится под угрозой оцепенения, напр., жизнь в раковинах, а человеческий — под угрозой инстинкта.)
В нашей коммуне нет предмета, нет вещи, а есть только формальная сторона, — отношения между вещами.
Сегодня мне рассказывали, что мужики, если узнают, что где есть книга Библия, собираются во множестве слушать чтение в надежде узнать пророчество о наших временах (про царя Михаила, зверя и проч.).
11 Февраля. Итак, мы допустим, что мир был в творческом порыве, как задуманная картина в решении художника. Порыв этот разошелся в трех направлениях, как ветер на перекрестке: растений, животных (инстинкт) и человека (интеллект).
Интеллект по природе своей (природа его — делать орудия из неорганизованной природы) имеет дело с мертвыми видами, если же он обращается с живыми, то они ему, как мертвые (напр., рабочий на фабрике).
Там, где падает порыв творчества, след его падения нам представляется как неорганизованная материя.
Перед животным царством был страшный момент опасности оцепенения, как у растений, когда в борьбе за существование оно покрывалось каменными раковинами.
«Худший вид рабства — это быть рабом интеллекта, интеллект владеет, но отдаваться интеллекту значит отдаваться в рабство (фанатики)». (М. Пришвин.)
«Вне геометрии и логики чистое суждение нуждается в том, чтобы быть под присмотром здравого смысла». (Бергсон.)
12 Февраля. Буря. Снежная вьюга. Вечером снег перестал, но при месяце и звездах всю ночь выл ветер.
13 Февраля. Эстетическое творчество служит для выражения индивидуального, напр., творчество Л. Толстого: это Л. Толстой; но как только Л. Толстой окончательно себя выразил, является ассоциация «Толстовство», которая отметает от себя Толстого — эстета, индивидума, выбирая для себя из него мораль. Впрочем, сам Толстой отказался от Толстого-индивидума, художника и объявил себя моралистом, т. е. как члена христианской ассоциации. То же самое произошло и с Гоголем, т. е. они уничтожили свою самость раньше, чем неминуемо потом должно было сделать общество. Их индивидуальность переросла саму себя и погибла естественно. Но бывает, индивидуальность вступает в борьбу за себя, за качество мира и борется до конца, как у Ничше (Сверхчеловек).
Против индивидума бывает мораль: итак, моралью можно назвать сумму правил поведения членов какой-нибудь ассоциации в борьбе с индивидуальностью.
Так умирает качество в количестве.
Они не только распнут, но еще назовут потом себя, свое общество именем распятого.
Ну вот… а между тем сознанию рисуется какой-то истинно верный путь индивидума, входящий в общество свободно, как река входит в море: индивидуальность может чувствовать себя индивидуальностью на время борьбы с ложными ассоциациями и в ожидании явления истинной. Назовем такую полную индивидуальность в отличии естественно-ограниченной личностью. Так, напр., личность Христа выше ассоциаций — церквей. Личность — это превзойденная индивидуальность, поскольку последняя есть только дело качества и побежденная общественность, поскольку последняя есть дело количества.
— Ты, служитель красоты — художник, не верь людям, которые в газетах и на улицах присягают искусству, не верь! придет час, они поломают твоих Венер, изобьют леса, истопчут луга и небо закоптят, и когда ты будешь проходить в этой пустыне, нечем тебе будет борониться от их слов: «До красоты ли нам теперь, когда есть нечего».
14 Февраля. — 3 Р. Ветер. Ночью порошка. Погода крутится. Русский интеллектуализм (интеллигенция): страсть к чужим идеям и к действию — выводу из них.
Написать деревню по работам моих учеников, надо задать сочинения.
15 Февраля. Сретенье. Снежная метель продолжается. «Мы свободны, когда наши действия исходят от всей нашей личности в целом». (Бергсон.)
Снился Париж, я приехал к Игнатову, Илья Николаевич имеет вид сильно старого, утомленного человека, он мне показывает «Русск. Вед.» и место в них, где я могу писать, но он торопится, и я чувствую, что очень мешаю ему куда-то идти, а вокруг-то суета, характерная для Парижа: приходят люди, уходят и в доме кипит холодно-деловая уборка. Появляется лицо, среднее между Кютнером, Лундбергом и Пястом. «Покажите мне Париж, — прошу я „Пяста“, — у вас есть свободное время!» — «Я совершенно свободен», — отвечает он, и мы выходим на улицу. Какая улица! широкая, разнообразная, какие прекрасные дворцы и бульвары. При переходе через улицу дама легкого поведения подходит ко мне и начинает говорить со мной, но я ничего не понимаю, вокруг нас вырастает толпа. Дама, вполне разочарованная мной, покидает, и того «Пяста» тоже нет, скрылся, я один иду улицу за улицей все дальше и дальше по сказочному городу, прекрасному, чудесному, вот, наконец, я увидал витрину с сигарами, завернутыми в золотые бумажки, и всякими папиросами, купить! но как я куплю, у меня только советские деньги, не имеющие никакой цены. Между тем уже темнеет, а я забыл записать адрес своей квартиры, я даже не знаю, в каком это направлении, и голоден я, и ночевать негде, а улица широкая вдруг покачнулась, и качусь на ту сторону, докатился, а она с той стороны покачнулась, я качусь назад, сверху же направлена на меня пушка и голос оттуда слышится по-русски: «Попался, попался, русский».